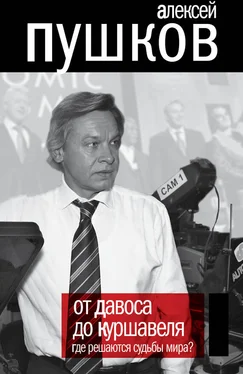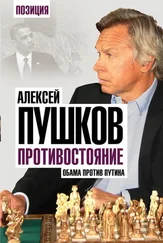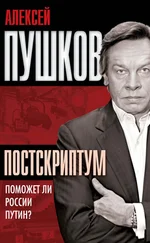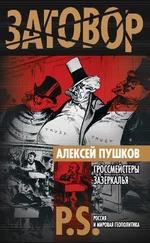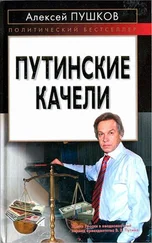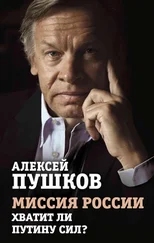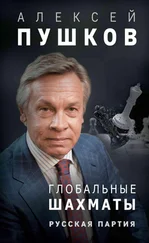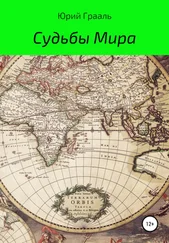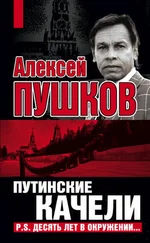ТРИ ЛИКА ЭПОХИ «ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ»
Глобальный экономический кризис 2008–2009 годов поставил под сомнение не только безусловное лидерство США и Европы в современном мире, но и идейные основы, на которых было выстроено это лидерство. В 2009 году в Давосе руководители западных инвестиционных банков, которые в прежние годы пользовались там непререкаемым авторитетом, в основном молчали. Главы многих крупнейших корпораций и банков вообще в Давос не приехали. На форуме ощущалось: в остром кризисе находится не только глобальная экономика, но и та модель развития мирового капитализма, которая насаждалась в мире последние тридцать лет.
Речь идет о неолиберальной модели. Ей сопутствовало представление, что глобализация и мировая экономическая интеграция создают основу для непрерывного роста экономического благосостояния. На практике это способствовало распространению американского финансового кризиса на весь мир. Именно глобализация стала переносчиком вируса, который сначала поразил экономику США.
Мы не раз слышали восторги по поводу глобализации как исключительно позитивного процесса. Однако совершенных систем и процессов не бывает. И кризис лишний раз это доказал.
В 2007 году в Давосе замглавы Федеральной резервной системы США (ФРС) Роджер Фергюсон утверждал: создана идеальная модель, о которой все мечтали. В результате глобализации риски распределяются по разным рынкам — если обрушится один из них, то другие сохранятся. И глобального обвала не будет — он невозможен! Бурные аплодисменты. Но полтора года спустя именно это и произошло. Что теперь могли сказать господин Фергюсон и другие финансовые гуру? Только одно: «Мы полностью провалились». И чтобы не признавать этого, они не прибыли в Давос.
Неолиберальная модель — это не только модель экономического развития, это и образ мышления, утвердившийся на стыке 70–80-х годов прошлого столетия. Тогда Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер заявили: мы уходим от вмешательства государства в экономику, освободим частный бизнес от ограничений, путь к экономическому успеху и процветанию — в жесткой конкуренции и в освобождении бизнеса от пут, наложенных государством. В социальном плане этому соответствовала идеология «социального дарвинизма», то есть принципа «выживает сильнейший». Главным критерием успеха была объявлена прибыль, основой общества — рыночный обмен, граждан стали рассматривать, прежде всего, как потребителей. «Главное — изменить не только экономику. Главное — изменить душу», — говорила Маргарет Тэтчер.
В 2008–2009 гг. эта система, претендовавшая на то, чтобы формировать душу современной экономики и современного человека, дала сбой. Все вдруг вспомнили о роли государства. Именно оно должно было спасти заплутавший и запутавшийся в финансовых аферах и масштабных спекуляциях современный капитализм.
В январе 2009 года британская газета «Файнэншл таймс» писала: «Вся система, созданная при Рейгане и Тэтчер, находится под угрозой. Кредитный кризис уничтожил репутацию банкиров Уолл-стрит». По мнению газеты, в условиях кризиса президент и министр финансов США получили такую власть, какой не обладал ни один глава этой страны со времен Франклина Рузвельта. Он, как известно, был адептом идеи сильного государства, к которой Америка обратилась для выхода из кризиса 1929–1933 годов. Рузвельт выводил страну из стагнации до 1940 года — выздоровление длилось очень долго.
В России неолиберализм провалился на 10 лет раньше, чем на Западе. При Ельцине у власти стояла команда сторонников неолиберальной доктрины. Ее составляли Анатолий Чубайс, Егор Гайдар, Борис Немцов и другие. Им помогала большая группа западных советников, таких, как Андерс Ослунд и Джеффри Сакс. Российских реформаторов поддерживал Международный валютный фонд. Эта команда заявила: сейчас мы все организуем так, что управлять будет «невидимая рука рынка». Российские реформаторы взяли за образец англосаксонский капитализм, и прежде всего США и Великобританию, где была совершенно другая и экономическая, и социальная база. И если для краха неолиберальной модели на Западе потребовалось 30 лет, то в России она «лопнула» намного быстрее — за несколько лет. В России эта модель привела к колоссальному разворовыванию государственного достояния, к массовому обнищанию и социальной катастрофе. Покойный американский журналист Пол Хлебников назвал это «самой крупной социальной катастрофой в истории России» — даже более страшной, чем потери от Великой Отечественной войны. Применение неолиберальной модели в российских условиях закончилось дефолтом 1998 года.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу