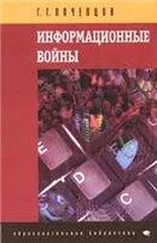Таким образом можно расписать множество действий следующего вида, направленных на «срыв» революции:
• захват физического пространства, не позволяющий воспользоваться им другим (открытого – площади, улицы, подземные переходы и закрытого – кинотеатры, дома культуры, музеи, которые используются для ночлега);
• блокировка распространения дестабилизирующей информации (газет, листовок и так далее);
• усиление стабилизирующей информации (августовский путч 1991 года, например, работал первые дни в информационном вакууме);
• порождение упреждающих событий, то есть событий новых, под которые нет готовых интерпретаций, которые требуют времени для реагирования;
• упреждающая блокировка «разрывных» событий, производимых другой стороной;
• делегитимизация действий противной стороны;
• выдвижение на первое место отвлекающих событий или людей;
• усиленное внимание альтернативным оппозиционным лидерам, способным увести за собой массы;
• усиленное распространение информации о негативе внутри команды соперников;
• присоединение своей команды к более сильным игрокам метауровня (в случае оранжевой революции одна команда присоединяла себя к России, другая – к Западу).
Все эти виды действий можно разделить на три класса:
• захват физического пространства;
• захват информационного пространства;
• захват когнитивного пространства.
Причем если эти пространства функционируют в режиме или / или (в них может занимать доминирующее положение или я, или мой противник), то все равно можно обозначать свое присутствие в этом пространстве, хотя бы на маргинальном уровне.
Какие превентивные методы возможны? Один из них предложил Марат Гельманкак создание России-2. Но по сути чем сильнее будет эта виртуальная Россия, тем разрушительнее она будет для России-1. Значит, речь должна идти не только о трансформации виртуальной страны, но и страны реальной. Давайте постараемся перечислить ряд факторов, которые могут и должны работать в нормальной стране и которые были определенным образом приостановлены:
• нормальная информационная среда, которая дает возможность не просто выговориться, но и является питательной средой для выращивания будущей элиты;
• нормальная политическая среда, в которую, а не на удар по существующей среде, уходит политическая энергия;
• нормальная элитная среда, требующая построения новой системы образования;
• новые системы иерархического личностного роста, позволяющие человеку находиться в комфортных условиях не только в политике или парламенте, но и в бизнесе или литературе и искусстве;
• усиление помощи молодежной среде, которая не должна оказаться перед закрытыми воротами после получения высшего образования.
То есть перед нами возникает система, в которой не закрыты, а открыты переходы между разными состояниями. И в ряде случаев государство способствует ускорению этих переходов.
Глеб Павловскийнаходит аналогию избирательных и революционных технологий в следующем: «Это все вход не с парадного подъезда, а через боковую дверь. Это все попытки с помощью тех или иных практик, приемов запустить в нестандартном режиме стандартный институциональный механизм. Может быть, вся проблема в том, что демократия просто становится нефункциональна в отношении своих задач?» [3]. 1999–2000 годы в России он видит как вариант ситуации, когда революцию сбили контрреволюцией. И набор этих методов зафиксировался в управлении страной. Например, работа с медиа: «Он сложился в борьбе с «Гусинской» медиа-политикой. Но «Гусинской» медиаполитики больше нет, нет готовности аудитории воспринимать себя как политиков при просмотре телепередач – а стандарт контроля остался. В этом смысле победители 2000 года живут в остановившемся революционном времени».
Смысл многих этих замечаний состоит в том, что невозможна замена реальной политики информационной, что общество должно получать реальные сигналы, а не заменители их. Вероятно, давным-давно эти же наблюдения были сформулированы в следующем виде: от повторения слова «халва» во рту слаще не станет.
Возникает почти автоматический вариант порождения легитимности – он всегда идет снизу: «Оппозиция исключает законность общественной сложности, например, существование неугнетенных и в то же время равноправных групп. Прав только угнетенный, а угнетен тот, кто назначен таковым. Всегда имеется свой излюбленный «пролетариат» – класс-идеал, который рассматривается ею как образцово страдающий, как оптимально угнетенный и, исходя из этого, – передающий ей неограниченную санкцию на любые действия по отношению к власти» [10].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Георгий Почепцов - Бюро добрых услуг рассеянного волшебника - [сборник]](/books/239694/georgij-pochepcov-byuro-dobryh-uslug-rasseyannogo-vol-thumb.webp)