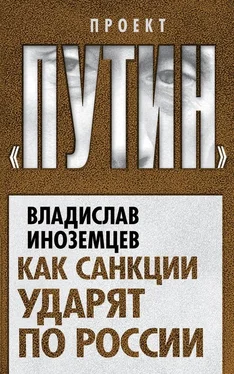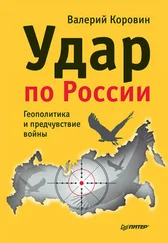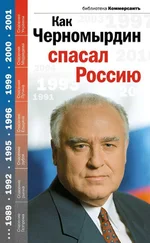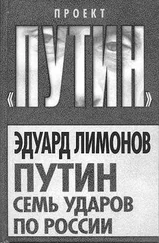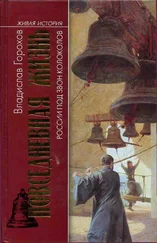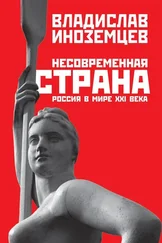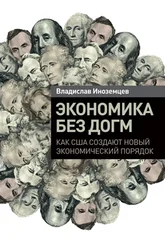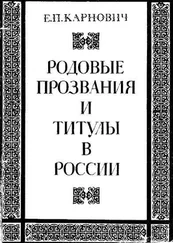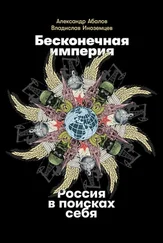Государственные инвестиции в России по понятной причине «советскости» нашей номенклатуры могут иметь только очень масштабный характер. 607 млрд. руб. из ФНБ пока направлены лишь в 6 проектов — для сравнения стоит напомнить, что в США в эпоху «нового курса» (с 1933 по 1939 год) на $4,2 млрд. ($190 млрд. в нынешних ценах, или 7 трлн. руб.) правительство проинвестировало 34 (!) тысячи объектов (дорог, плотин, мостов, аэропортов, школ, больниц), причем все они были реализованы силами частных компаний по минимальным на тот момент ценам. B России же эффективность сегодня вообще не принимается в расчет: Олимпиада в Сочи стоила больше, чем 8 предшествующих зимних игр, вместе взятые; автомобильная дорога между Москвой и Санкт-Петербургом так и не построена, хотя работы идут уже почти 20 лет. Между тем государство тратит на все это средства, собранные в виде налогов или пошлин с реального бизнеса; деньги, в конечном счете либо вынутые из кармана потребителя, либо им недополученные. Если присмотреться к этой системе, можно увидеть, что в России годами производится массовый перелив доходов из рентабельных бизнесов в убыточные — что, собственно, и оказывается главной миссией бюджета. Валерий Зубов, депутат Государственной Думы и бывший губернатор Красноярского края, недавно удачно назвал этот феномен «суррогатной инвестиционной системой». B итоге средства, распределяемые государством, с одной стороны, практически не доходят до конкурентных секторов экономики, не создают новых точек роста и повышают в лучшем случае инвестиционный, но не конечный, спрос; с другой стороны, не снижают цены и тарифы на услуги естественных и неестественных монополий, позволяя этим компаниям и далее не заботиться об эффективности и инновационности. Таким образом, российские чиновники надеются подтолкнуть рост, изымая средства у частных предпринимателей, которые как раз могли бы его «запустить», и отправляя в сектора, которые на реальное экономическое развитие почти не влияют.
Иначе говоря, первой ошибкой руководителей экономического блока правительства выступает то, что они пытаются применить классические макроэкономические рецепты оживления к неклассической экономике. Проблема в России заключена не в дефиците инвестиционных ресурсов, в поисках которых проводят время наши власти, а в отсутствии рыночно ориентированных компаний, которые могли бы эти инвестиции эффективно «переварить». Эта проблема лежит не на макро-, а скорее на микроуровне, чего мы упорно не хотим замечать и что стало следствием хозяйственной политики последних двух десятилетий. Именно поэтому сегодня в России льют «топливо» в «автомобиль», у которого не работает двигатель.
При этом не составляет труда заметить, что государственные инвестиции в современной России направляются в первую очередь туда, где есть надежда на линейный рост валовых показателей. «Вал» отечественные руководители любят еще с брежневских времен — и этот тренд в полной мере воспринят современными «эффективными менеджерами». Все помнят, как в начале 2000-х годов президент В. Путин провозгласил в качестве ориентира удвоение ВВП, как будто оно может что-то сказать о развитости экономики. Сегодня мы слышим о необходимости «увеличения объема грузоперевозок на восточном полигоне железных дорог на 40 %», словно сам по себе грузооборот способен увеличить национальное богатство; о том, что «мост на Сахалин должен быть построен только потому, что нам нужно показать, что мы способны реализовывать масштабные проекты»; не прекращается финансирование строек, которые, даже будучи законченными, на десятилетия станут обузой государственной казны. При этом, замечу, федеральный центр (осознанно или, быть может, бессознательно) оставил в своем ведении налоги и платежи, которые связаны именно с объемами производства (НДПИ, НДС, экспортные пошлины), но отнюдь не с его эффективностью (налог на прибыль, на доходы физических лиц, на недвижимость, и т. д.). B тех же США, где с технологическими нововведениями дело обстоит немного получше, чем в России, федеральное правительство живет как раз за счет подоходного налога (46,7 % доходов) и налога на прибыль (10,7 %), в то время как аналог НДС — налог с продаж — поступает в казну штатов, а таможенные сборы обеспечивают около 0,1 % поступлений. Поэтому в нормальных экономиках абсолютизируется не рост, а развитие: вывод на рынок новой продукции, победа над отстающими конкурентами, создание новых секторов и отраслей. Более того — новейшие тренды в глобальном хозяйстве свидетельствуют, что ведущими оказываются те отрасли, которым удается постоянно снижать цену на свою продукцию на фоне столь же устойчивого улучшения ее качественных характеристик (компьютерная индустрия, производство средств и оказание услуг связи, разработка программного обеспечения, фармацевтика дженериков); отрасли, которых в современной России попросту не существует. Это должно указывать на совершенно иное отношение к замедлению роста: вместо того, чтобы разгонять безнадежно отставшую экономику, период низкого роста следует использовать для структурной перестройки хозяйства, для новых масштабных технологических заимствований и для переобучения работников. Ha это, замечу, было нацелено большинство программ экономического стимулирования, одобренных в развитых странах в период кризиса 2008–2009 годов — и только в России правительство требовало не увольнять работников и вкачивало средства в потенциальных банкротов, с которыми и сейчас неясно, что следует делать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу