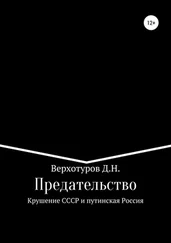Платон работал после Пелопоннесской войны — то есть после того, как свободные греческие полисы вступили в войну друг с другом. Всего лишь пятьдесят лет назад Аристид и Павсаний стояли бок о бок в битве при Платеях, а сегодня афиняне и спартанцы — враги.
Нам легко вообразить подобный казус. Союзники, называвшие себя защитниками свободы, сражались единым фронтом с фашизмом, олицетворявшем абсолютное зло, но едва закончилась война с фашизмом, как они принялись воевать друг с другом. Пелопоннесская война была жесточайшей: жен и детей продавали в рабство, мужчин убивали поголовно. Свободный мир пожирал сам себя — но прекрасные слова свободнорожденных звучали столь же страстно. И слова обесценились, точно так же как обесценились сегодня слова «право», «свобода», «солидарность».
В сороковые годы прошлого века страшнее фашизма не было ничего. По прошествии короткого времени объявили, что не только фашизм повинен в войне; называли разные причины: коммунизм, варварство, несходство культур. Но если фашизм определен не точно, если фашизм не абсолютное зло, как быть с моральными кодексами, лежащими в основе сегодняшнего международного права? Мораль постфашистского общества возникала на пепелище в абсолютной уверенности что все — решительно все — надо принести в жертву общей идее справедливости и взаимовыручки. Но это намерение не существовало дольше, чем потребовалось принять решение о подавлении греческих мятежей социалистов. На щекотливые вопросы отвечали апофатическими истинами Поппера и Арендт, вырабатываемыми от противного. Избавлялись от доктринерства и морализаторства, и сегодня в таблице первоначальных критериев зияют пустые места; а дыры заполнят чем угодно. Ждали, что заполнят личной состоятельностью (а уж моральная личность постарается!), но заполнили имперским пафосом; впрочем, разве это не одно и то же?
Сократ, терпеливо разбирая с очередным собеседником, что лучше — терпеть несправедливость или причинять несправедливость, прибегал к простейшим аргументам: всякий раз требовалось начинать объяснение с азов; впоследствии категорический императив свел это к простейшей формуле, внятной школьнику. Но греческая философия имеет ту особенность, что это первая из элементарных таблиц, составленных человечеством. Не на что было сослаться — помимо правил геометрии. Невозможно было, как принято сегодня, сослаться на авторитет (а вот Хайдеггер считает, а Ницше писал) — оставалось показать, почему прямые не пересекаются.
Впрочем, тогда роль свадебных генералов философии играли оратор и учитель красноречия; софисты учили о гражданственности, о праве, а люди (ровно как сегодня) любили послушать о правах.
Сократ не любил красноречия. В последний раз ему удалось продемонстрировать презрение к ораторскому мастерству на суде, когда, приговоренный к смерти, он отказался от яркой защитительной речи, написанной для него знаменитым оратором Лисием («речь прекрасна, но разве ты не знаешь, что красивая одежда и красивая обувь мне не подходят?»), — он стал защищать себя сам, говоря простыми словами. Его последняя речь завершает долгие споры с мастерами красноречия; и Сократ — выигравший столько споров! — в последнем проиграл.
Тогда, как и сегодня, противник демократии непременно определялся как сторонник тирании. Спустя две с половиной тысячи лет Поппер повторил аргументацию судей Сократа уже в отношении Платона. Обвинение обоим состоит в подрыве демократических институтов, в идеологической диверсии. Сократу (а затем и Платону) предлагают выбрать между демократией и тиранией, объяснить, на чьей они стороне. Они терпеливо объясняют, что тирания происходит непосредственно из демократии и противопоставления здесь нет. Если принять участие в антитираническом конгрессе, организованном олигархом, это не будет реальной оппозицией тирании, поскольку тирания из олигархии и произошла.
Весьма быстро Сократ стал «нерукопожатным», пользуясь сегодняшним салонным выражением, — он усомнился в благе либеральной демократии; по контрасту с былой тиранией, которую данный строй сменил, это казалось кощунственным. В то время уже складывалась новая тирания, страшнее прежней, однако эйфория от пребывания на гребне исторического успеха была сильна.
Обвинителями Сократа выступили идеологи демократии: гражданственный поэт Мелет, патриот Анит, участвовавший в свержении режима тридцати тиранов, и демократический оратор Ликон. Вместе они олицетворяли тот самый интеллектуальный салон, который Сократ презирал, и салон платил ему ненавистью. Легко представить, как ярко судьи переживали свою правоту и победу. На стороне обвинителей Сократа — герои-демократы, коими мы восхищаемся, патриоты отечества: Перикл, Фемистокл и так далее. Они не присутствуют буквально на суде, но судят их именем, и, главное, Сократ не оспаривает того, что он может быть их именем осужден. Просто для Сократа авторитетами были совсем не эти имена, но логика и геометрия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
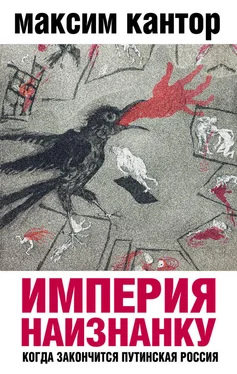
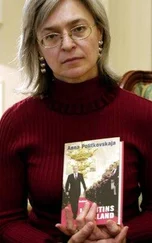








![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)