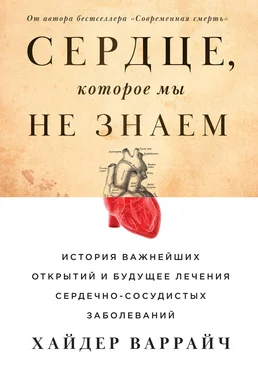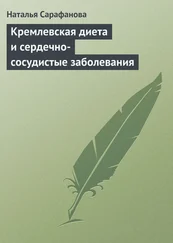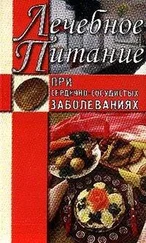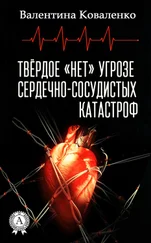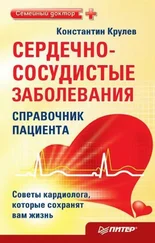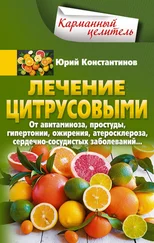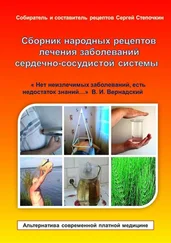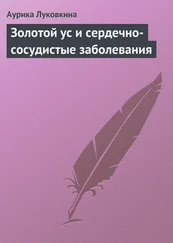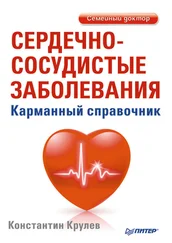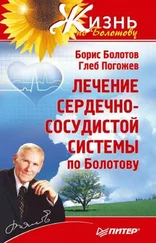В начале 1950-х гг., когда Шервин был еще студентом-медиком, ему в качестве первого пациента достался некто Джеймс Маккарти – «мужчина крепкого телосложения, директор строительной компании, чей успех в бизнесе соблазнил его вести такой образ жизни, который, как мы сейчас знаем, является для человека самоубийственным» [438] Nuland S. How We Die: Reflections of Life’s Final Chapter. New York: Knopf; 1994.
. Стоило 22-летнему доктору присесть к нему на койку, как Маккарти «запрокинул назад голову и издал бессловесный рев, который, казалось, поднялся по горлу откуда-то из самых глубин его больного сердца». Нуланд позвал на помощь, но никто не откликнулся. «Я нащупал на шее Маккарти сонную артерию, но пульса не было».
Удивительно, но Нуланд даже никогда не видел, как проводится эта процедура, однако он все-таки вскрыл мужчине грудную клетку и взялся правой рукой за его сердце. «Подушечками пальцев я чувствовал несогласованное, нерегулярное подрагивание – из описания в учебнике я помнил, что это смертельное состояние под названием «фибрилляция желудочков», агония сердца, за которой последует вечный покой». Нуланд прибегнул к распространенному тогда способу, которым врачи пытались реанимировать таких пациентов: ритмичному массажу сердца голыми руками. Но сердце Джеймса Маккарти отправилось-таки на вечный покой – как и сердца всех других пациентов с желудочковой тахикардией или фибрилляцией в то время, поскольку если человеку даже удавалось пережить аритмию, то вскрытие грудной клетки его, как правило, добивало.
Кардиохирурги также часто сталкивались с желудочковыми аритмиями и тоже зачастую прибегали к массажу умирающего сердца в попытках заставить его снова качать кровь. В 1947 г. хирург из Кливленда Клод Бек уже заканчивал вполне обыденную операцию на маленьком мальчике, когда у того вдруг началась желудочковая фибрилляция [439]. Бек массировал руками сердце мальчика более получаса, но фибрилляция не прекращалась. Тогда Бек решил попробовать способ, успешно использовать который ему до этого ни разу не удавалось: он подсоединил прямо к сердцу мальчика электроды, включенные в розетку на стене, и пустил в него высоковольтный разряд. После первой попытки сердце продолжало фибриллировать. После второй оно просто перестало биться. Но через несколько мгновений Бек стал свидетелем того, о чем раньше мог только мечтать: у мальчика начались «слабые, регулярные и довольно быстрые сердечные сокращения». Это был первый случай доказанного использования электричества для спасения человека, и всего через несколько дней мальчик вернулся к нормальной жизни.
Отделение, в котором я проходил практику в Бостоне, носило имя Пола Золла (1911–1999), одного из первопроходцев в тогда еще только зарождавшемся направлении – электрофизиологии [440] Cohen S. I. Resuscitation great. Paul M. Zoll, M.D. – The Father of “Modern” Electrotherapy and Innovator of Pharmacotherapy for Life-Threatening Cardiac Arrhythmias. Resuscitation. 2007;73:178–85.
. С самого начала своей карьеры Золл интересовался сердечным ритмом, но не смел применить свои методы к пациентам с остановкой сердца, поскольку тогда считалось, что это противоречит воле Бога или законам природы [441] Cohen S. Paul Zoll, MD: The Pioneer Whose Discoveries Prevent Sudden Death. Salem, NH: Free People Publishing; 2014.
. Однако со временем он преодолел свою робость и стал одним из первых разработчиков аппарата, ныне известного как дефибриллятор, который мог воздействовать электрическим разрядом на сердце пациента с желудочковой аритмией без вскрытия грудной клетки [442]. Параллельно с этим группа русских ученых под началом Наума Гурвича разработала еще более эффективный вариант дефибриллятора, работающего на постоянном, а не переменном токе, в отличие от изобретения Золла [443] Cakulev I., Efimov I. R., Waldo A. L. Cardioversion: Past, Present, and Future. Circulation. 2009;120:1623–32.
. Но эти революционные советские разработки не получили широкого освещения в мире, так что у западных исследователей ушло еще несколько десятков лет на то, чтобы понять, что постоянный ток эффективнее переменного.
Постепенно дефибрилляторы становились все меньше и меньше. И теперь у миллионов мужчин и женщин в груди, под ключицей, установлены дефибрилляторы размером с ломтик чипсов Pringles, от которых идет проводок, введенный прямо в правый желудочек. При малейшем сбое ритма эти дефибрилляторы тут же пришпоривают сердце, заставляя его идти ровным шагом. Можно было бы подумать, что таким образом мы раз и навсегда решили проблему желудочковой тахикардии, но эти сбои ритма по-прежнему очень тяжело поддаются лечению. Хотя разряд дефибриллятора восстановил нормальный ритм сердца Луизы, эффект был лишь временным. Ей несколько часов проводили сердечно-легочную реанимацию – сначала это делали парамедики, а потом аппарат, который ритмично надавливал ей на грудь, пока ее везли на скорой в больницу. В больнице у нее много раз снова начиналась желудочковая тахикардия, и было ясно, что ее тело уже слишком долго испытывало нехватку кислорода – по подсчетам врачей, до того, как ее обнаружили зажатой между машинами в прачечной, желудочковая фибрилляция была у нее уже около часа. Ее родные сказали, что она бы не желала себе всего этого – всех этих электрических разрядов, аппарата ИВЛ и сердечно-легочной реанимации. Тогда все системы жизнеобеспечения были отключены, и Луиза уже больше не очнулась.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу