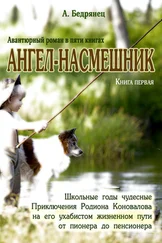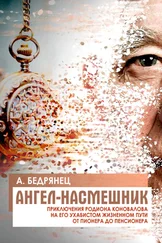Ещё в июле с циклом санитарных врачей по водоснабжению и охране водоёмов, на автобусе ГИДУВа, я руководил экскурсией для осмотра Таицких ключей. Для решения вопроса о возможности восстановления Таицкого водовода необходимо было выяснить причины прекращения прохода воды через минную галерею. Я с большим интересом принял участие в обследовании и в обсуждении вопроса об организации восстановительных работ, в результате которых начало бы поступать достаточное количество ключевой воды для питания прудов. К сожалению, пока безрезультатно.
Летом 1951 г. я несколько раз показывал моим слушателям запущенный и захламлённый берег Невы в лучшей части её течения в Ленинграде, в районе Смольного, — участок левого берега от Охтинского моста, мимо Смольного и крупнейшего в Союзе учреждения для инвалидов-хроников (на 3,5 тыс. мест) до выхода к Неве проспекта и бульвара имени Чернышевского. Особенно замечателен участок невского берега там, где к Неве примыкают задворки Смольного. Здесь с высокого берега открывается чудесный вид на широкий водный простор Невы в том месте, где впадает в неё с противоположной стороны река Охта. Высота берега позволила бы создать здесь набережные в два яруса: нижний — со спусками к лодочным и пароходным пристаням, с площадками, пешеходными полосами и прогулочными аллеями у береговых ограждений, и верхние набережные с широкими проездами и насаждениями, примыкающими непосредственно к остаткам старых парков, окружающих Смольный собор, один из крупнейших архитектурных памятников Растрелли, и с парками, окружающими Дом инвалидов. Разумеется, Дом инвалидов и больница для хроников, занимающие несколько кварталов этой прибрежной части центрального района Ленинграда, не должны оставаться здесь. Для правильной организации трудовой терапии и здоровой жизни хроников современные крупные учреждения для них должны быть вынесены за пределы города. Они должны устраиваться в хорошо оборудованных загородных имениях с многоотраслевым садово-огородным сельским хозяйством. Совершенно непостижимо, каким образом в этой лучшей части береговой линии Невы, в центре города, оставались эстакады для стоянки шаланд, наполняемых фекалиями, с постоянным движением к ним ассенизационных цистерн, бочек асобоза. В течение многих лет я обращал внимание на огромные планировочные возможности создания набережных и парковых устройств в этой части города — с включением в них всей системы зданий и садов прежнего Смольного монастыря, которые являются очень показательным и поучительным прототипом целой секции кварталов с застройкой только по краю квартала («рантовая» застройка украинских градостроителей). В 1951 г. я составил и направил в Ленсовет специальную записку с обоснованием необходимости устройства общедоступных набережных и парковых насаждений на протяжении от Охтинского моста до проспекта Чернышевского. Предложение это обсуждалось с моим участием в Мариинском дворце в конце лета 1951 г., причём решено было поручить архитектурному отделу разработать этот вопрос. К сожалению, я не знаю дальнейшей судьбы этого документа. Как сложен и длинен путь от формулирования и обоснования, казалось бы, совершенно неотложных и необходимых мероприятий по благоустройству города до их практического осуществления! Я имел случай в этом убедиться во время экскурсии в начале зимы 1951 г. с циклом санитарных врачей по охране атмосферного воздуха от выбросов, создаваемых крупнейшей электростанцией Ленинграда, расположенной в густо застроенном и заселённом Смольнинском районе. Станция работала на низких сортах угля, с зольностью до 20 %. Ежедневно она сжигала более 1000 т топлива и выбрасывала через свои дымогарные трубы более 100–150 т мельчайшей золы вместе с дымом. Этим дымом загрязнялся воздух в целом районе города. Изо дня в день в поликлиники обращались десятки людей с повреждением соединительных оболочек глаз попадающими в них частицами золы, выносимой из труб станции. Ещё в 1931 г., будучи заведующим сектором гигиены ВИЭМ, я составил подробную записку о том, что в связи с отказом вынести станцию, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, на расстояние не менее 2-х км от жилых районов города, — на ней необходимо установить дымоочистители (электрофильтры Котреля). Записка эта была передана в Ленгорисполком. По решению Горисполкома была назначена комиссия. Несколько раз я был на 2-й ГЭС в заседании комиссии. Инженеры электростанции решительно отвергали возможность устройства электрофильтров. Местные условия не позволяли разместить бункеры для улавливаемой золы. В результате 2-я ГЭС осталась без дымоочистителей. Спустя несколько лет вновь было проведено тщательное обследование очистных устройств, и вновь — никаких практических результатов. Так дело тянулось до издания распоряжения Совета Министров об обязательности устройства дымоочистки на крупных электростанциях. Тогда в 1950 г. на 2-й ГЭС построили трубопровод через Неву, чтобы по нему под напором сильной струёй воды передавать улавливаемую из дыма золу вместе с размельчёнными котельными шлаками на свалку в заболоченной местности. На 2-й ГЭС приступили к устройству мультициклонов и электрофильтров. Во время экскурсии в ноябре 1951 г. мы осматривали уже действующие установки-мультициклоны и Котрели — на нескольких печках. На остальных велось спешно сооружение пластинчатых электрофильтров. Из труб выходили уже не тёмно-серые тучи пыли, а почти прозрачные струи дыма.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
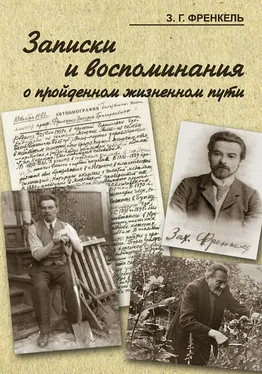


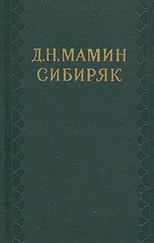
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)