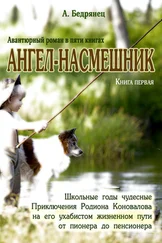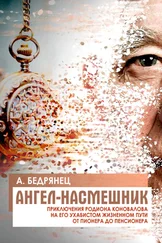Меня серьёзно беспокоила мысль о том, что я совсем забросил все начатые в разное время такие большие работы по обобщению итогов развития общественно-санитарного дела в период 1864–1917 гг., как «От приказной медицины до земской и от общественной медицины до советского здравоохранения» и «Система местного благоустройства». Неужели всё, на что уже было затрачено мною столько труда, проникнутого сознанием важности моего понимания организации самодеятельности, обращенной на непосредственно окружающие местные условия и нужды, неужели все эти мои работы и мысли должны рассматриваться как ненужный хлам, не имеющий никаких шансов на использование, не стоящий завершения? «У меня иссякает вера, что я сам ещё найду время и силы, чтобы взяться вновь за эти работы, продвинуть их. И никого нет вокруг, кто бы понимал эти замыслы, кому эти начатые работы и их продвижение были бы жизненно нужны», — эти строки я нахожу в моих ежедневных записях в начале февраля 1951 г.
Я непременно добросовестно готовился к лекциям, хотя всегда выступал только на такие темы, которыми много лет всесторонне занимался. От Общества по распространению научных и политических знаний я выступал в лектории Горкома на Литейном проспекте, в большом зале Военно-санитарного музея, а также в Доме офицеров. При этом я никогда не читал лекций по заранее написанному тексту. Продумав тщательно план выступления и подготовив все необходимые материалы, я подробно намечал для себя всю последовательность и аргументацию. И всякий раз ставил себе непременным условием настолько овладеть темой, чтобы затем свободно, никогда не прибегая во время лекции к справкам и конспектам, излагать тему, отдаваясь ходу мысли. Только при этом условии лекция может оставаться продуктом непосредственного живого мыслительного процесса и вызывать в аудитории ответную работу мысли, порождающей вопросы и поддерживающей интерес и внимание. При этом совершенно исключается монотонность изложения.
В январе 1951 г. я выезжал в Москву, чтобы выступить в качестве официального оппонента на защите Н. Н. Литвиновым докторской диссертации в АМН. В своей работе он давал санитарно-гигиеническое обоснование новой планировки Сталинграда при его послевоенном восстановлении. Изучение положенных в основу диссертации материалов вызвало у меня сомнение в правильности выдвинутого автором положения о необходимости объединения всех населённых территорий вдоль Волги — от тракторного завода и рабочего посёлка при нём до Красноармейска и новых посёлков, возникших в связи со строительством головной части Волго-Донского канала, — в один город протяжённостью более 50 км. Меня не удовлетворяла организация самой защиты докторской диссертации в АМН. Я пытался придать своему выступлению характер диспута, другие же официальные оппоненты, особенно проф. Н. К. Игнатов [370], ограничились скучным прочтением напечатанного на машинке своего предварительного отзыва, как это в большинстве случаев вошло в практику в послевоенные годы. Защиты в АМН проходили не в открытом заседании Отделения гигиены, а перед специальной квалификационной комиссией с узким кругом участников, очень, кстати, неаккуратно являющихся на такие мероприятия. Постановление комиссии АМН теряет в авторитетности, так как в обычном канцелярском порядке идёт на утверждение в чисто бюрократическую инстанцию — ВАК. Совершенно очевидна нелепость такого порядка, когда защита и постановление самого высшего по своей научной компетенции в данной отрасли знаний учреждения, каким является АМН, проверяется ВАКом на основании случайного заключения его рецензента.
Интересной для меня оказалась поездка в апреле 1951 г. в Петрозаводск. После того, как этот город стал столицей союзной Карело-Финской республики, в нём развернулось широкое строительство. Моя поездка была вызвана просьбой карело-финского министерства здравоохранения к ГИДУВу о командировании гигиенистов и эпидемиологов для участия в республиканском съезде врачей по развёртыванию сети санитарно-эпидемических станций и по организации компетентного санитарного руководства планировкой и жилищно-коммунальным строительством. В ранние утренние часы, до начала заседаний, каждый день я часа три-четыре (с 6 до 10 часов) пешком обходил не только центральные, но и окраинные улицы. Прежде всего, обращала на себя внимание разбросанность нового строительства по обширной территории города. Оно велось не комплексно, не целыми жилмассивами и кварталами, а отдельными зданиями на разных улицах, не имеющих канализации, без предварительной инженерной подготовки и санитарной мелиорации территории.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
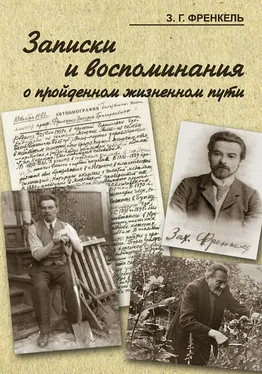


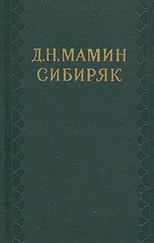
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)