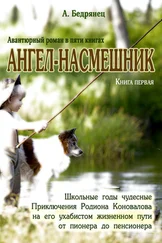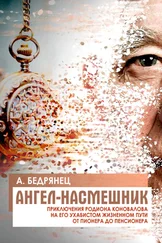В бодром настроении, вызванном дружной работой конференции и господствовавшим среди всего инженерно-технического персонала трудовым подъёмом, уезжали мы на пароходе Волгостроя в Ярославль. Из Ярославля я проехал по Волге до Рыбинска, чтобы оттуда возвратиться в Ленинград.
В Рыбинске я имел несколько часов до отхода поезда для осмотра этого города, в котором мне никогда прежде не приходилось задерживаться. Из разговоров со встретившимися мне в Рыбинске работниками коммунального хозяйства я узнал, что Рыбинск живёт в лихорадочном ожидании окончательного решения вопроса, где будет строиться Рыбинская гидроэлектростанция. А вопрос этот был связан с дальнейшей судьбой того Волгостроя в районе Ярославля, под впечатлением от обилия успехов строительства которого я находился. Мне казалось немыслимым, чтобы могла развернуться постройка целого городка с театром, жилыми постройками вместо преодолевшего уже столько трудностей и потребовавшего уже таких огромных затрат труда и средств Волгостроя под Ярославлем. Ведь не могло же быть начато такое огромнейшее строительство без выяснения перспектив его дальнейшей судьбы. И я испытал чувство боли и горя, когда год спустя узнал, что Ярославский Волгострой заброшен, опустел и целый посёлок жилых домов и зданий для культурного и бытового обслуживания населения никем не утилизируется. Вновь вспомнил я римскую мудрость — «festina lente!» Спешить нужно, ни в коем случае не замедлять осуществления планов, но… нельзя забывать: «Семь раз отмерь, а потом режь на отмеренном месте!»
В августе 1932 г. я совершил ещё одно путешествие на север. На этот раз с сыном. Я ехал по делу — для осмотра недавно законченной в Кеми крупной больницы Мурманской железной дороги вместе с санитарным врачом этой дороги К. О. Поляковым. У меня явилась мысль воспользоваться этим случаем, чтобы из Кеми проехать с Иликом в Хибиногорск, побывать с ним на туристской станции в горах Заполярья, посмотреть апатитовые разработки, горное озеро, вернуться на пароходе в Свирьстрой, куда звал меня С. И. Перкаль, а затем пароходом по Свири, Ладожскому озеру и Неве вернуться в Ленинград.
В Кемь мы приехали под вечер и прямо с вокзала пришли в новое крупное здание больницы. Здесь, пока К. О. Поляков договаривался с главным врачом об устройстве на следующий день подробного осмотра всего строительства и оборудования больницы с участием инженера и моим, как консультанта по больничной гигиене и санитарному благоустройству, я с большим интересом слушал рассказы молодых врачей, моих слушателей, недавно окончивших 2-й ЛМИ, о том, как идёт их работа в поликлинике и больнице, в какой мере находит в их работе отражение того социально-профилактического направления и диспансерного построения врачебной помощи, о котором так много приходилось говорить мне на лекциях и занятиях. Меня очень интересовало, были ли с их стороны попытки рационально поставить учёт заболеваний и статистическое изучение заболеваемости и её связей с местными условиями, какова была на практике работа их по оздоровлению «условий труда и быта». Попутно я узнал о некоторых существенных недочётах вновь построенной, хорошо архитектурно-оформленной больницы: полное отсутствие больничного сада и благоустроенных мест для прогулок и пребывания на открытом воздухе, отсутствие при больнице библиотеки, сырость и целые лужи грунтовой воды в подвальных помещениях и пр.
Во время утренней прогулки с Иликом мы обошли всю больничную усадьбу с большим участком, вполне пригодным для устройства хорошего огорода, но заболоченным вследствие отсутствия проточного пруда с выпуском воды в протекающую близ больницы реку Кемь. Затем мы спустились по каменистому береговому склону к реке. Как легко можно было бы украсить посадками деревьев этот имеющий сильный уклон к реке косогор! Какой прекрасный прибольничный сад можно было бы устроить на нём, укрепив некоторые спуски подпорными стенками. Камни для подпорных стенок подвозить не понадобилось бы. Они всюду имеются на месте, под ногами. Недалеко за больничной усадьбой манили к себе своим причудливым видом каменные глыбы и голые каменные холмы, диабазовые, гранитные лбы. Мы с Иликом взобрались на один из самых крупных гранитных массивов — голый, как будто стёсанный гранитный лоб, величиной в многоэтажный исполинский дом. Он был испещрён глубокими царапинами и бороздами, тянувшимися параллельно, в одном и том же направлении с северо-запада на юго-восток. Глядя на них, как бы читаешь одну из страниц относительно недавней геологической истории данной части Карелии. С севера двигались неизмеримой толщины ледниковые массы, которые стёрли и унесли все лежавшие над древнейшими гранитными породами напластования. Движение этих масс, трение камней, вмёрзших в нижние их слои, оставляли царапины и целые борозды на гранитных массивах. С тех пор прошли десятки, сотни тысяч лет, изменился климат, ледники остались только далеко на северо-западе (например, в Гренландии); моря и океаны с тех пор не покрывали Карелии и не образовали над оголёнными гранитными лбами геологических покровов из осадочных пород. И вот мы стоим, попираем своими ногами, видим собственными глазами поцарапанную ледниками поверхность гранитных «лбов». Мы были под обаянием беспредельности времени, неисчислимости ряда веков, которые протекли над этими гранитными голыми глыбами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
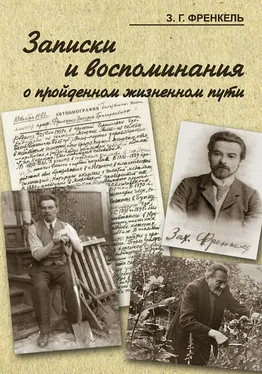


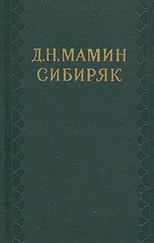
![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)