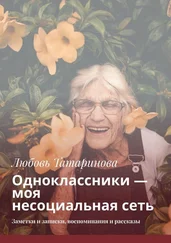Приближался 1917 год. Неудачи на фронте, постоянные дополнительные мобилизации, начавшие уже давать о себе знать продовольственные затруднения в связи с перегрузкой железных дорог военными перевозками, а затем и наступившим полным расстройством системы сообщений, — всё это вызывало глухое, всё растущее недовольство. Нарастало внимание к отражению общего неудовлетворения в речах и спорах в Государственной думе, к поискам выхода из ухудшавшегося у всех на глазах положения на фронте и в тылу. Стихийно падала в низах уверенность в устойчивости, во всесилии попечительного начальства. Я помню, что даже в военном госпитале в нашей лаборатории возникали вольные разговоры с критикой правительственных распоряжений и с одобрением наиболее острых обличительных речей думской оппозиции. Однажды даже во время такого разговора один из санитаров из числа выздоровевших раненых подал реплику:
— Ничего тут не поделаешь, сам царь служит опорой всего расстройства и на фронте, и в государстве.
На эту реплику последовал ответ:
— Значит, и царь слетит, а без него дело можно выправить.
В середине февраля [208] Здесь и далее Захар Григорьевич приводит даты по старому стилю.
в Петербурге начались уличные собрания. Идя в санитарно-техническое бюро из своего Лесного, где я жил, я видел, как жандармы и казаки разгоняли манифестацию на Невском у Публичной библиотеки и Гостиного Двора. В 20-х числах февраля добраться из Лесного в город стало трудно, а затем и совсем невозможно — останавливались трамваи. Пришли известия, что в Государственную думу пришёл в полном порядке целый полк и отдал себя в распоряжение выделенного Думой Комитета, что в городе всюду идут собрания, в которых участвуют военные — солдаты и офицеры; что группы манифестантов арестовывают министров и пр. Я отправился в город пешком. На Сердобольской было очень нелегко пройти по Выборгскому шоссе к Сампсониевскому проспекту. Артиллерией обстреливали каменный дом, в котором засели офицеры с воинской частью, пришедшей усмирять присоединившихся к народу солдат. Густые толпы людей двигались к центру города. На Сампсониевском проспекте у Бабурина переулка с чердака дома через слуховое оконце по двигавшимся массам велась пулемётная стрельба. Она то прекращалась, то вновь возобновлялась. Пришлось проходить, прижимаясь к стенам домов, чтобы не попасть под обстрел, как приходилось это делать на фронте, в Сольдау. Тут же образовалась дружина добровольцев, занявшая все выходы из дома и организовавшая захват полицейского, производившего обстрел. На Литейном проспекте люди двигались плотными массами по тротуарам и у тротуаров. По мостовой проносились грузовики с группами солдат, присоединившихся к народу. Их встречали приветствиями.
В санитарно-техническом бюро и областном комитете рассказывали много непроверенных слухов об аресте министров, об образовании думского Комитета. С трудом возвращался я среди той же давки домой, в Лесное. Ещё продолжался артиллерийский обстрел казармы, где засели не сдававшиеся офицеры.
Совершенно созрело у меня осознание того, что происходит революция, а не просто демонстрации. Что нужно всё, что только возможно, сделать, чтобы обеспечить условия для жизни выбившихся из привычной колеи людей. Нужно накормить эвакуированных больных и раненых в госпиталях, достать, во что бы то ни стало достать, хлеб для населения. Ведь все лавки были закрыты. Из города в Лесное, например, не было никакого подвоза.
Придя домой, я рассказал всё, что видел собственными глазами и узнал по слухам. Вместе с моею женой Любовью Карповной мы прошли по улицам Лесного. Был уже поздний вечер. Из города возвращались разрозненные группы людей, возбуждённых, охотно делившихся всеми впечатлениями дня, всем, что видели, о чём слышали. Вопрос о том, что будет завтра, забота о том, куда, как следует направлять ход событий — не занимал никакого места во всех этих рассказах.
Возвращаясь домой, мы встретили несколько отбившихся от своих частей солдат. Это были преимущественно молодые новобранцы. Днём они самовольно ушли из казармы, в которую превращена была не работавшая во время войны обойная фабрика (на Малой Объездной улице), целый день оставались без еды, а теперь опоздали и к ужину. Больше всего их мучил страх перед наказанием за самовольную отлучку и голод. Мы позвали их к себе. Любовь Карповна быстро наладила чай и мобилизовала приварок, какой только можно было сделать в поздний ночной час. Они ушли, поевши, когда уже рассветало, — эти простые деревенские парни, чрезвычайно признательные за дружеское «соседское» внимание к ним, но в то же время растерянные, с боязнью кары, которая могла их ожидать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


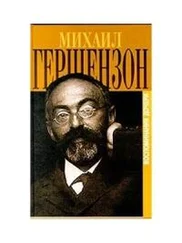

![Николай Фигуровский - Я помню... [Автобиографические записки и воспоминания]](/books/388931/nikolaj-figurovskij-ya-pomnyu-avtobiograficheskie-thumb.webp)