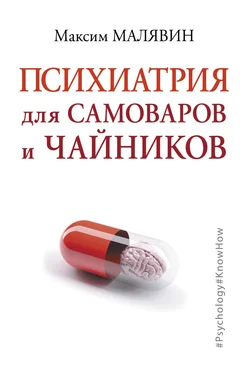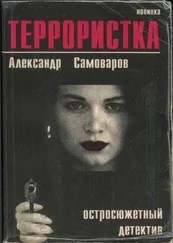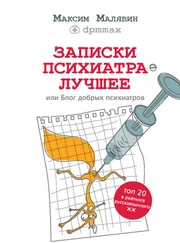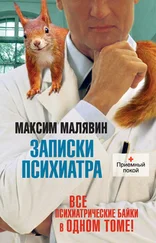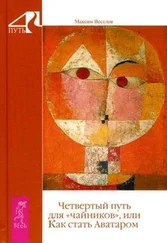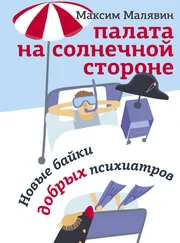Пришел как-то раз Гулливер на лилипутскую дискотеку. И стало его колбасить. А лилипутов, соответственно, плющить.
© Джонатан Свифт. Из никогда не опубликованного
Хотя этот синдром относится более к неврологии, нежели к психиатрии, без него описание синдромов и понимание проблем в нашей отрасли медицины было бы неполным.
Когда в начале пятидесятых годов в психиатрической практике впервые появился аминазин, это был прорыв. Это было начало новой эпохи в психиатрии — эпохи нейролептиков. Кардинальным образом изменилась тактика ведения пациентов: теперь многих можно было не держать в больницах годами и десятилетиями — теперь можно было назначать лечение и отпускать их домой! Не всех, естественно, но многих, очень многих. Правда, как утверждают некоторые приверженцы чистой науки, с появлением аминазина из клиник исчез последний настоящий психически больной — якобы настолько нейролептики изменили картину болезни. Но вы же знаете этих завзятых гуманистов с отягощенным анамнезом — их хлебом не корми, дай только произвести лечебно-диагностическую декапитацию. Или наловить репрезентативную выборку пигмеев и шимпанзе, а потом заставить жить вместе долго, страстно и предположительно счастливо — лишь бы поглядеть, в кого пойдут дети.
Вслед за аминазином появился целый ряд нейролептиков, более избирательно действовавших на различные виды психосимптоматики: скажем, стелазин (он же трифтазин) был хорош для купирования бреда, галоперидол — для борьбы с галлюцинациями. Но, как это обычно бывает с любым лекарством, после недолгого периода примерки лавров панацеи появился первый привкус дегтя. Пациентам нейролептики нравились гораздо меньше, чем назначающим их докторам. Почему? Все дело в одном из побочных эффектов — нейролептическом синдроме.
Строго говоря, нейролептический синдром, или нейролепсия, — это частный вариант так называемых экстрапирамидных расстройств (термин взят из неврологиии; экстрапирамидная система управляет движениями человека, поддерживает тонус мышц и позу тела, не задействуя кору головного мозга и ее пирамидные клетки). Расстройства эти могут быть вызваны как болезнью, так и побочным действием некоторых лекарств, особенно тех, которые влияют на концентрацию посредника (одного из многих) передачи нервных сигналов — дофамина. Это могут быть и некоторые из лекарств для лечения паркинсонизма, и блокаторы кальциевых каналов, применяемые в кардиологии, и не в последнюю очередь нейролептики. А поскольку оные применяются очень широко, то нейролептический синдром вполне можно выделить и рассматривать отдельно.
Именно это побочное действие (точнее, целый их букет) нейролептиков так не любят пациенты психиатрических клиник, именно этот синдром расценивают как наказание за какую бы то ни было провинность, и именно его ставят на вид, вспоминая карательную психиатрию. Откуда он берется и чем проявляется?
Точный механизм его пока до конца не изучен. Считается, что нейролептики, помимо прочего, блокируют в подкорковых ядрах рецепторы, чувствительные к дофамину. Это, в свою очередь, ведет к увеличению синтеза дофамина в организме (примерно так человек, привыкая к запаху своего одеколона, использует его все больше и больше, вплоть до умывания им), а его избыток запускает болезненный процесс.
Сам процесс может протекать:
• в острой форме: дали лекарство — скрючило, отменили — прошло;
• в затяжной форме: давали лекарство долго, потом отменили, а побочные эффекты длятся еще недели и даже месяц-другой;
• в хронической форме: когда нейролепсия не исчезает даже после полной отмены нейролептиков;
• в злокачественной форме: с молниеносным развитием и утяжелением симптомов и нередким смертельным исходом.
Выражается нейролептический синдром в следующих проявлениях, которые могут либо существовать изолированно, либо сочетаться друг с другом, порой весьма причудливо.
Нейролептический паркинсонизм.Пациент ощущает скованность во всех мышцах тела, его движения становятся скупыми, заторможенными, руки чуть согнуты в локтях и напряжены, походка семенящая, шаркающая. Более или менее постоянно дрожат руки; в сидячем положении начинают подрагивать колени — то еле заметно, то так, словно пациент их специально подбрасывает вверх. Иногда дрожит нижняя челюсть, что создает ощущение, будто пациент часто-часто жует (синдром кролика).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу