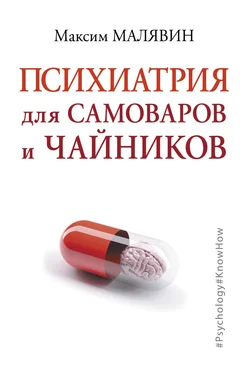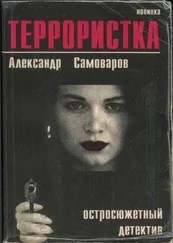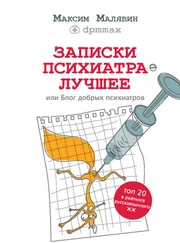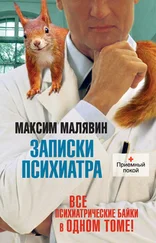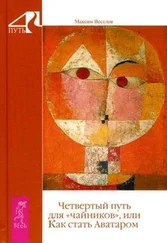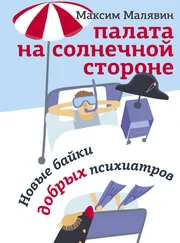И в эти самые пятидесятые, с небольшим временным разрывом, происходит два события на двух разных континентах. В самом сердце старушки Европы, в Швейцарии, в лабораториях компании «Geigy», в 1948 году был синтезирован имипрамин (об этом антидепрессанте я расскажу, когда начну их описывать, он применяется до сих пор). Синтезировали, провели клинические испытания — и на несколько лет сделали паузу: то ли слишком революционным показалось открытие, то ли не готовы были ученые мужи решиться выпустить этого веселящего джинна из бутылки. В общем, в итоге выпустили, но чуть позже, в 1954-м, когда мир услышал об аминазине. А что, удобно: если соберутся бить, всегда можно сказать — мол, не мы первые все это начали, это все вон те парни! А еще к тому моменту произошло второе событие, в другой части света.
В 1951 году в Нью-Йорке начали испытывать два новых препарата от туберкулеза — изониазид и ипрониазид. Поскольку лекарства были новыми, добровольцев набирали из тех, кому терять было особо нечего, — то есть из пациентов с тяжелыми и запущенными формами туберкулеза. И заметили, что лекарство действует. Но не только так, как ожидалось. Помимо основного эффекта, довольно неплохого, обнаружился довольно любопытный побочный.
Пациентам стало лучше не только объективно. Они стали чувствовать прилив сил, отмечать, что настроение, по понятным причинам бывшее ниже плинтуса, пошло в гору. Некоторые из них даже стали нарушать больничный режим и бурагозить — сил-то в избытке, да и настроение такое, знаете ли, игривое… Медики заинтересовались отчетами и подумали: а что, если… Словом, в 1952 году французский психиатр Жан Делей уже опубликовал доклад о лечении депрессий изониазидом. А следом за ним — американские коллеги-психиатры, Макс Лурье и Гарри Зальцер. Они-то, кстати, и предложили назвать эту группу лекарств антидепрессантами.
Итак, обещанный стих про мыша:
Если взрослого мыша
Взять и, бережно держа,
Натыкать в него иголок —
Вы получите ежа.
Если этого ежа
Нос зажав, чтоб не дышал,
Где поглубже бросить в воду —
Вы получите ерша!
Если этого ерша,
Головой в тиски зажав,
Посильней тянуть за хвостик —
Вы получите ужа!
Если этого ужа,
Приготовив два ножа…
Впрочем, он, конечно сдохнет,
Но идея хороша!
Прежде чем перейти к описанию конкретных препаратов, стоит сказать несколько слов о том, что же это за зверь такой — антидепрессант. А также развеять (или подтвердить, тут уж как получится) несколько мифов и страшилок, которые витают в Сети вокруг этой группы лекарств.
В первую очередь антидепрессанты (и это видно из названия) работают с настроением. То есть улучшают его. Причем в подавляющем большинстве случаев, за редким исключением, они работают лишь с пониженным настроением. Чтобы сделать нормальное отличным — это, скорее, казуистика, тут они вряд ли чем-то вам помогут. Действие на тревогу, тоску, вялость, апатию, бессонницу и аппетит — это уже дополнительные эффекты, и не все эти эффекты идут у антидепрессанта в полном наборе: какой-то лучше действует на депрессию с оттенком тревоги, какой-то на вялую, апатическую депрессию, какой-то улучшает аппетит, какой-то, напротив, напрочь его отшибает, особенно в первые дни приема. Повторюсь, основная их мишень — это настроение. Как, за счет чего?
А вот это уже загадка. Нет, я серьезно. Ни у психиатров, ни у биохимиков, ни у нейрофизиологов в настоящее время нет четкого понимания того, как в точности и что именно заведует нашим настроением. И того, как происходит процесс его снижения или улучшения. Теорий много. И год от года появляются все новые: чем глубже в мозг, тем толще монографии.
Да, опытным путем было доказано, что действие всех антидепрессантов так или иначе связано с их вмешательством в обмен моноаминов, часть из которых по совместительству работают нейромедиаторами: серотонина, дофамина, норадреналина, фенилэтиламина. Да, один из антидепрессантов действует на обмен мелатонина. И что дальше? А дальше — теории. Причем зачастую каждая следующая опровергает предыдущую, а следующая за ней вроде бы и подтверждает, но с оговорками — словом, все согласно закону отрицания отрицания в диалектическом материализме. Есть мнение, что дело не в нейромедиаторах (точнее, не столько в них), а в их действии на особые белки — нейротрофины. А уже те работают с нервной системой, причем не только с ее лимбическим отделом (предполагалось, что тут-то все настроенческое и формируется), а с ним и еще целым рядом отделов мозга… или со всем мозгом в целом. И что вообще настроение — это результат оценки мозгом результата трудов своих. И что в формировании депрессии задействованы механизмы, отдаленно напоминающие аутоимунные, с нейротоксическим действием…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу