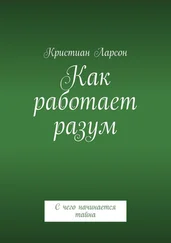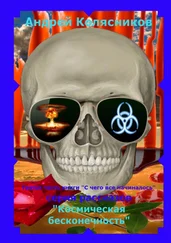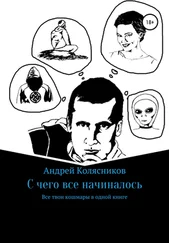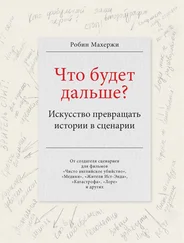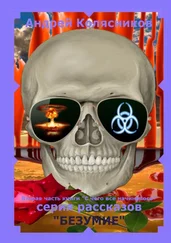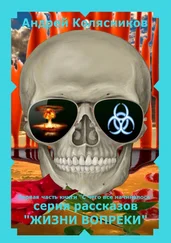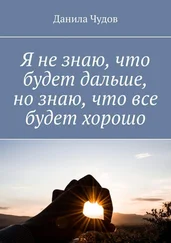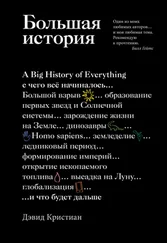После того как появились крупные формы жизни, они стали переделывать биосферу так же сильно, как и мелкие, но иначе. Многоклеточные заселили и преобразовали континенты. Большие растения перемололи горные породы в почвы, ускорили выветривание и превратили пыльные, каменистые поверхности молодой Земли с ее окаймленными строматолитами берегами в пышные экзотические сады, леса и саванны последнего полумиллиарда лет. Накачивая в воздух кислород, сухопутная зеленая растительность изменила атмосферу. Около 400 млн лет назад Земля стала привыкать к новой высокой норме содержания кислорода (более 15 % атмосферы в противовес старой норме, составлявшей менее 5 %) и низкому содержанию углекислого газа (несколько сотен, а не тысяч частей на миллион). Растения образовали новые ниши для животных, а грибы и бактерии вычищали, разлагали и перерабатывали для вторичного использования останки. Многоклеточные также изменили облик океана, наполнив его странными новыми созданиями от креветок до морских коньков, от осьминогов до синих китов.
Молекулярные гаджеты для образования крупных форм жизни
В течение последнего миллиарда лет самые главные клеточные нововведения происходили не внутри клеток (здесь бóльшую часть работы сделали прокариоты), а в изменчивой архитектуре связей между ними. Первые многоклеточные состояли из клеток, слабо связанных друг с другом, как, например, в строматолите, где их миллиарды. Они были больше похожи на стадо, чем на организм. На самом деле многие бактерии демонстрируют стадное поведение, что говорит о некой зачаточной системе коммуникации. На практике это означает, что вычислительные сети каждой клетки соединены в вычислительную систему, строящуюся из множества отдельных клеток.
Возможно, некоторые из древних многоклеточных были многоклеточными на полставки, как современные слизевики. Диктиостелиум – амеба. Большую часть времени ее клетки ведут самостоятельную жизнь, но, когда не хватает питания, они тысячами собираются в слизистое скопление, более крупное образование, способное двигаться в поисках пищи. У этого скопления есть возможности, которых нет у отдельных особей, например оно способно перемещаться на большие расстояния к теплу и свету. А по ходу движения отдельные клетки могут меняться и брать на себя разные роли: кто-то превращается в споры, кто-то – в часть ножки или ступни. Диктиостелиум демонстрирует несколько важных вещей. Во-первых, многоклеточность возникала неоднократно и у некоторых групп организмов развивается прямо сейчас. Во-вторых, как и у живого в целом, у многоклеточных есть пограничная серая зона, организмы которой трудно классифицировать [95] Michael J. Benton . The History of Life: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008, loc. 766, Kindle; см. также: Dennis Bray . Wetware: A Computer in Every Living Cell. New Haven, CT: Yale University Press, 2009, loc. 2008 et sec, Kindle.
. В-третьих, многоклеточность приумножает вычислительные мощности отдельных клеток, повышая их способность обрабатывать информацию об окружающей среде.
В полноценных многоклеточных организмах все клетки специализированны и взаимозависимы, так что они не могут выжить поодиночке. На самом деле истинная многоклеточность – это крайняя форма симбиоза. При этом сотрудничество облегчает то, что большинство клеток здесь генетически идентичны. Они – одна семья. Так что каждая из них поддерживает своей работой весь организм и иногда даже жертвует жизнью во благо остальных. Клетки в самом деле часто самоуничтожаются, как пилоты-камикадзе, когда перестают хорошо работать или больше не нужны; этот процесс биологи называют апоптозом. Сегодня в вашем теле целых 50 млрд клеток покончат с собой через апоптоз.
Обмен информацией в многоклеточном организме так же важен, как в современном обществе. В основном межклеточное общение происходит с помощью местного аналога почтовой службы; молекулы-курьеры просачиваются через мембраны отдельных клеток и циркулируют между ними, разнося питание, предупреждения, информацию и приказы. Какая доля генома многоклеточных посвящена сотрудничеству, стало понятно, когда в 1998 году секвенировали первый такой геном. Он принадлежал червю Caenorhabditis elegans , в нервной системе которого ровно 302 нейрона. Оказалось, что около 90 % из его 18 891 гена у одноклеточных прокариот отсутствует, потому что задача этих генов – обеспечивать совместную работу клеток [96] Siddhartha Mukherjee . The Gene: An Intimate History. New York: Scribner, 2016, loc. 5797, Kindle.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Дэвид Кристиан Большая история [С чего все начиналось и что будет дальше] обложка книги](/books/405580/devid-kristian-bolshaya-istoriya-s-chego-vse-nachinal-cover.webp)



![Робин Махержи - Что будет дальше? Искусство превращать истории в сценарии [litres]](/books/438454/robin-maherzhi-chto-budet-dalshe-iskusstvo-prevracha-thumb.webp)