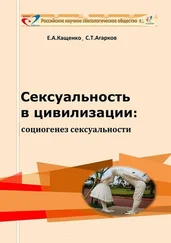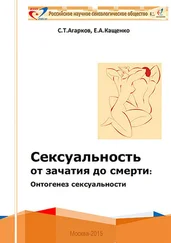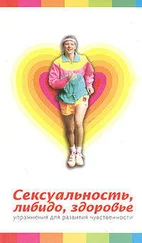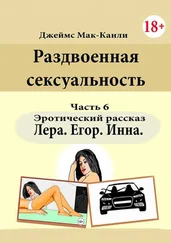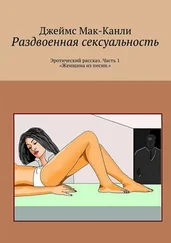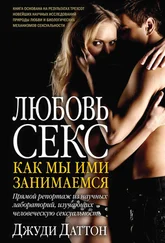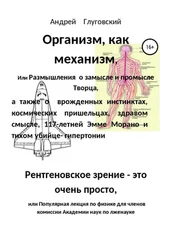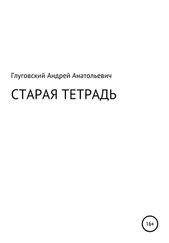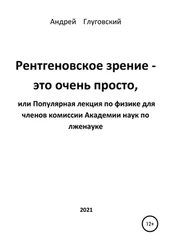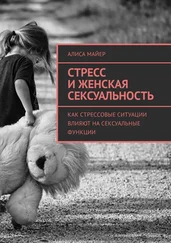В любых, вплоть до современных, этических системах присутствует конструкция множественного табуирования сексуальной активности по возрастным половым или культурным мотивам, которая существует в виде некоей само собой разумеющейся данности, изначально до всякой систематики всем понятной и потому не требующей никакого специального обоснования. Наличие и актуальность такой конструкции в немотивированной или недостаточно мотивированной форме указывает на то, что запрещаемая сфера отношений постоянно присутствует в психологическом контексте индивидов.
Фактически, сексуальная окрашенность поведения и есть та актуальная реальность, которая требует своего преодоления для достижения потенциально возможных, но гипотетических образцов поведения, сформулированных в этической системе как высокоморальные. В обыденном сознании эта проблема отражается в декларируемом достаточно часто отношении к сексуальности как к животным проявлениям, постыдным и осуждаемым. Это же относится и ко всем другим витальным проявлениям, но сексуальность, в силу своей особой значимости, порицается моралью более строго и явно. Парадоксальность такого осуждения тем более понятна, если учесть, что сексуальность в тех или иных формах неизбежно присутствует в жизни каждого индивида, независимо от того, насколько нетерпимы к её проявлениям его теоретические убеждения. Возникает естественный вопрос: для чего человек отрицает то, что заведомо не подлежит его контролю?
Но нелогичность здесь кажущаяся и ответ вполне очевиден. Он заключён в соотнесённости приоритетов развития социальных и биологических форм развития. Примат социальности в общественном сознании (в индивидуальном его присутствие необязательно) носит утилитарный характер и поэтому социально опосредованное целеполагание одобряется моралью и предполагает соответствующее одобрение только тех сторон жизнедеятельности индивида, которые подтверждают эту утилитарность. Мораль и возникает и развивается как общественная, небиологическая форма отражения, поэтому она по определению не может быть объективной и представительствовать социальные и биологические тенденции как равноправные и равнозначимые в развитии. Биологические формы жизнедеятельности будут терпимы до тех пор, пока они не будут противоречить реализации социальных закономерностей.
Сексуальность не исчезает в морали полностью. Рассуждая об отсутствии мотивированности запрета, следует разделить проблему. Запрет немотивирован, если вопрос стоит так: почему запрет возник? Но зато есть достаточная мотивация относительно целей запрета, то есть — для чего он нужен? (речь, разумеется, идёт не о мотивации, присутствующей в обыденном сознании) сексуальность в этических формах сознания никогда не запрещается полностью, как таковая. Запрещаются лишь те её формы, которые уходят корнями в биологическую функциональность (исключение составляет всё, что связано с детородной функцией), запрещается то, что принято называть сексом, физиологическая сторона половых взаимоотношений. Но запрет был бы недействительным и он вообще вряд ли возник бы, если бы табуируемый физиологический аспект не был в морали компенсирован соответствующим увеличением противоположного. Кроме негативного императива в морали есть и позитивный образец, так называемая "любовь в высоком смысле".
Понятие любви выводит сексуальность из плоскости непосредственных физических контактов в более абстрактный контекст психологических взаимодействий, опосредованных прежде всего социальными знаковыми и ритуальными смыслами. Сексуальность перестаёт быть формой удовлетворения только витальных потребностей индивида, она становится важнейшим средством межиндивидуального общения и, одновременно, стимулом к усвоению социальных закономерностей. Сексуальная функция приобретает форму противоречия, так как уже ни одна из альтернативных форм отправления функции — физиологическая или психологическая — в отдельности не удовлетворяет потребность полноценно.
В этическом сознании это разделение не представлено, и понятие любви определяется индуктивно, как некий нерасчленимый ценностно-этический комплекс, не имеющий мотивации и существующий в форме аксиоматического императива, предполагающий не рефлексирование, не анализ, а действие, направленное на стремление к достижению образца. Понятие любви получает значение критерия жизнедеятельности индивида и личностной ориентации сознания.
Читать дальше