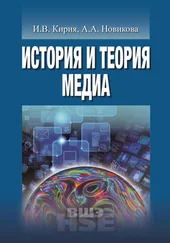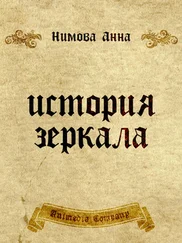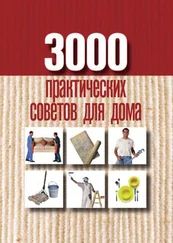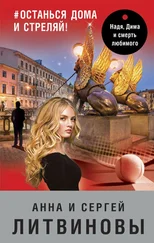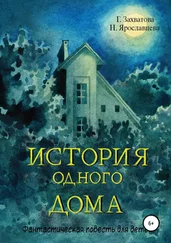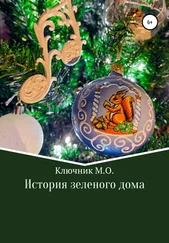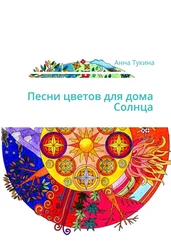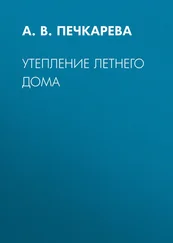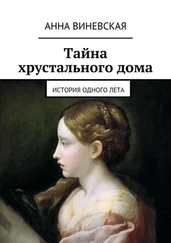Разница в общественном положении не стала препятствием и для возникновения искренней привязанности к крепостной актрисе Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. Романтическая история любви влиятельного вельможи и простой крестьянки даже вошла в фольклор. Почти все русские песенники начиная с 1819 года включали в свой репертуар «Песню кусковской крестьянки Параши Кузнецовой-Горбуновой», в которой рассказывалось о встрече едущего с поля барина с девушкой-крестьянкой.
Высший свет смотрел на подобный мезальянс иначе – с глубочайшим осуждением. По этой причине обвенчаться влюбленным, пусть даже тайно, удалось лишь спустя многие годы после начала романа.
Крепостная крестьянка Параша Ковалева, будущая актриса Жемчугова и графиня Шереметева, родилась в 1768 году в деревне Березники Ярославской губернии в семье кузнеца Ивана Степановича Ковалева (прозванного соседями и значившегося в подушном окладе как Горбун). Княгиня Марфа Михайловна Долгорукая, приживалка в графском доме, обратив внимание на необыкновенные певческие данные и на приятную внешность девочки, взяла ее в семилетнем возрасте на воспитание в Кусково. Маленькую Парашу ждали многочисленные ежедневные занятия: изучение иностранных языков – французского и итальянского, актерского искусства. Будущие актрисы кусковского театра учились игре на музыкальных инструментах, пению и танцам у лучших артистов.

Прасковья Ивановна Ковалева-Жемчугова, графиня Шереметева
У девочки оказался действительно прекрасный и сильный голос. Позднее граф Шереметев вспоминал: «Как никакое собрание не может быть равно и одинаково, то из числа тех девиц одна одаренная природными способностями блеснула более всех надеждою».
В одиннадцать лет Параша (в программе она уже именовалась Прасковьей Ивановной) дебютировала в комической опере Гретри «Опыт дружбы» в роли молодой служанки. Позже актеры получили красивые псевдонимы по названиям драгоценных камней: Прасковья Ковалева стала Жемчуговой и первую главную роль играла уже под новой фамилией. Выступления в опере Монсиньи «Беглый солдат» и героической опере Гретри «Самнитские браки» (она представляла на сцене юную самнитянку, возглавившую войско, чтобы защитить родину от завоевателей-римлян) стали настоящим успехом артистки Жемчуговой. В числе зрителей «Самнитских браков» были Екатерина II и Станислав Понятовски. За два-три года актриса стала необычайно известна. Публика валом валила на представления с ее участием, а театр приобрел небывалую славу.
Посвященная лишь искусству московская жизнь не могла продолжаться бесконечно. В 1796 году на трон взошел Павел I, чьим товарищем юношеских лет был граф Шереметев. Царь тут же призвал старинного друга на службу в Петербург, произведя его в чин обер-гофмаршала. Теперь в числе обязанностей Николая Петровича было «пробовать все блюда, назначенные к царскому столу». Уезжая из Москвы, граф забрал с собой лучшую часть труппы, включая приму Жемчугову. Теперь ей предстояло блистать на столичных подмостках и даже обрести нового поклонника своего дарования в лице самого императора: за исключительный талант ей был пожалован перстень. Однако взлет ее театральной карьеры был недолгим. В сыром климате туберкулез, мучивший ее с детства, обострился, и вскоре ей пришлось оставить сцену.
Доверенным лицом Шереметева в первопрестольной остался Алексей Федорович Малиновский. На него были возложены обязанности управляющего домовой канцелярией графа и поручено наблюдение за строительством будущего Странноприимного дома. Алексей Федорович был сыном протоирея Федора Малиновского, духовника Николая Петровича. Отец Федор также принимал участие в работах: вел переговоры с архитекторами, наблюдал за ходом строительства. А кроме того, утешал и ободрял прослышавших о сооружении бесплатной больницы и приходивших искать помощи страждущих.
Когда Малиновский приступил к обязанностям смотрителя, работы шли уже два года и была закончена левая часть корпуса (собственно богадельня) с церковью Живоначальной Троицы. Исходный проект здания и смета на строительство принадлежали бывшему крепостному архитектору Елизвою Семеновичу Назарову. Весьма способный ученик зодчего Василия Ивановича Баженова, он прошел обучение в его «архитекторской команде» при Экспедиции кремлевских строений. В 1798 году митрополит Московский Платон дал разрешение на постройку новой церкви – поскольку Ксенинский храм (так по-прежнему называли церковь на Черкасских Огородах) к тому времени пришел в ветхость. В том же году император Павел одобрил начинание Шереметева и дал разрешение продолжить строительство.
Читать дальше