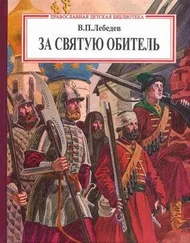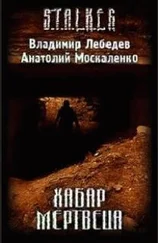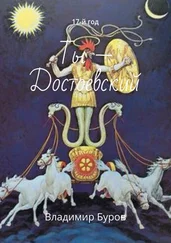Ограничимся анализом влияния Версилова и Макара Долгорукого прежде всего из-за того, что через них подросток познакомился с основными противоборствующими идейными течениями, волновавшими самого Достоевского.
В аристократе Версилове, гордящемся своей принадлежностью к дворянству, подростку импонирует обоснование высшего, культурного русского типа всемирного боления. Ему созвучно, что Версилов отслужил России, пока в ней жил, и, выехав за границу, продолжал ей служить, потому что, «служа так, служил ей гораздо больше, чем если был только русским». Не могло не поразить его и прозрение отца, что «одна Россия уже почти столетие живет не для себя, а для одной лишь Европы», и вытекающая из него благородная мечта, чтобы «каждый ребенок знал и чувствовал, что всякий на земле – ему как отец и мать» (13; 376–378). Не прошли бесследно для Аркадия и «вериги» Версилова, когда тот начал истязать себя, как «...себя мучат монахи», постепенно обуздывая свою волю. Но за этим «философским деизмом» Аркадий смог почувствовать как истинность, так и ложность убеждений Версилова. Он понял, что всемирная причастность, ответственность за все и за всех, призыв любви к людям и окружающей природе необходимы по-настоящему, а не иллюзорно для животворного слова. В то же время попытка создавать прекрасное будущее «из эмиграционного далека» в отрыве от жизни народа им стала осознаваться как утопическая мечта, непригодная для живого конкретного дела.
Макар Иванович Долгорукий восхитил подростка прежде всего своим мировоззрением, тем, что «у него есть твердое в жизни» (13; 301). Существенны на пути к животворному слову высказанные им, на первый взгляд, парадоксальные мысли о безбожниках: «Кто веселый, тот не безбожник», «за личиной безбожника может скрываться показная суетливость». Заставил думать Аркадия и их спор о «пустыножительстве». Аркадий горячо возражал Макару, напирая на эгоизм этих людей, бросающих мир и пользу, «которую бы могли принести человечеству единственно для эгоистической идеи своего спасения». В противовес защищаемой старцем правде самоограничения рисовал он картины «полезной деятельности ученого, медика или вообще друга человечества» в мире. Макар же, придя в сущий восторг от его горячей и доброй мысли, однако, засомневался: «...да много ли таких, что выдержат и не развлекутся? Деньги хоть не Бог, а все полбога – великое искушение; а тут и женский пол, а тут и самомнение и зависть. Вот дело-то великое и забудут, а займутся маленьким...» (13; 311). Критика «подводных камней» на пути человека, посвятившего себя профессиональному милосердию, – сильная сторона рассуждений Макара. Но положительная сторона пустыножительства, противопоставляемая им программе Аркадия («В пустыне человек укрепляет себя... каждый день все больше радуешься, а потом уже и Бога узришь»), так же, но только с обратным знаком отчуждена от живой народной жизни, как и «деистическая» утопия Версилова.
В осознании «скрепляющей идеи», подготавливающей к животворному слову, Аркадию помог разговор с самим собой. Записывая историю своих первых шагов на жизненном пути, он вдруг почувствовал, что «перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания» (13; 447). И если Аркадий еще только в начале движения к живому слову, то Алеша, главный герой намечаемого второго романа о братьях Карамазовых, в уже написанном гораздо дальше продвигается на пути к подвижничеству.
Для того чтобы стать целителем души, подвижник, решившийся на это, по мысли Достоевского, должен быть мудр умом и сердцем, овладеть животворным словом. В предыдущем разделе мы отметили, что этими качествами наделены монахи-советодатели и странники, своей мудростью напоминающие старца Зосиму и Макара Долгорукого. И хотя старцев разъединяют сословные, образовательные и монастырские иерархические различия, но объединяет возраст, спокойное отношение к приближающейся смерти, дающее возможность мудро обращаться к остающимся жить. В. Н. Захаров замечает о старце Зосиме: «Его слово – слово уходящего, благословляющего, наставляющего». [110]Объединяет старцев также опыт странствий и общения с народом. Все перечисленное в развитии старцев-подвижников, скорее, только намечено Достоевским. Трудно отделаться от мысли: не стилизованное ли это жизнеописание? Не является ли оно красивой легендой? Именно эта «иконопись» старца Зосимы позволила недоброжелателям романа изображать его иногда в карикатурном и, мы бы сказали, в лубочном виде.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
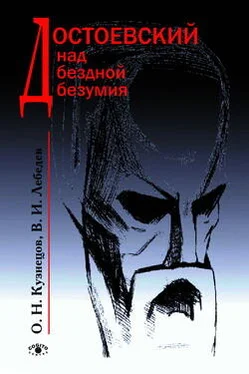

![Владимир Белобородов - Сорвать цветок безумия. Империя рабства [СИ]](/books/31693/vladimir-beloborodov-sorvat-cvetok-bezumiya-imper-thumb.webp)