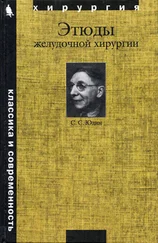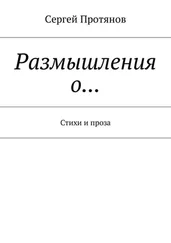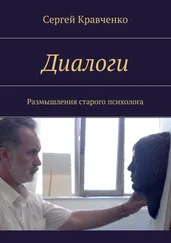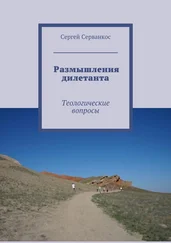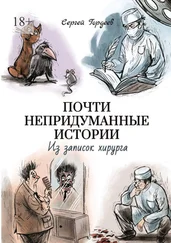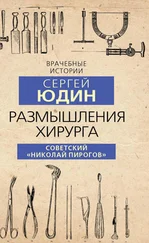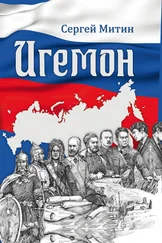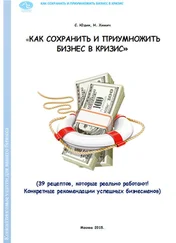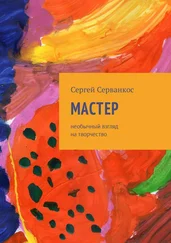Еще менее способны на подозрительную и недоброжелательную критику студенты. Для них профессор, хирург со стажем и большим личным опытом не только учитель, маэстро, но отчасти сподвижник и даже герой. Недопустимо намеренно создавать о себе впечатление у молодежи как о персоне высшего порядка, «первосвященнике». Зато совсем не худо отдельными фразами, но часто напоминать как студентам, так и молодым врачам, что, как ни увлекательна наша хирургическая наука, как бы ни захватывали энтузиастов достигнутые успехи и несомненные еще более блестящие перспективы, никогда не следует забывать, что не больные существуют для развития науки и хирургического искусства и мастерства, а наоборот. Кому же, как не профессору, напоминать об этом студентам в годы их воспитания или молодым врачам, приезжающим на курсы усовершенствования! Пройдут годы, и одни из них могут опуститься до мещанского безразличия и душевной невосприимчивости, другие, наоборот, увлекутся захватывающей стороной экспериментальной хирургии или сквозь все улучшающиеся цифры сводных статистик и операционных отчетов перестанут видеть живого страдающего человека. Я не говорю уже про такие крайности, как почти спортивное отношение к виртуозной хирургической технике, головоломным, сверхрискованным операциям на безнадежных больных, и о том холодно-деловом бухгалтерски безразличном отношении к острейшим людским трагедиям, когда вместо больного видят «случай», а за личиной так называемой профессиональной выдержки и сдержанного мужества фактически скрывают эгоистическую бесчувственность и нравственную апатию, моральное убожество.
Напоминать о врачебном долге и хирургической строгости – не значит постоянно читать нравственные поучения, кои в абстрактной форме столь же скучны, сколь мало доходчивы. Есть вернейший способ не только привлечь захватывающий интерес к подобным вопросам, но добиться того, что память о них прочно врежется у слушателей. Это – рассказывать студентам о собственных тяжких ошибках.
Средство это не ново. Еще Н.И.Пирогов с абсолютной прямолинейностью заявлял, что он «почел своим долгом никогда не скрывать от слушателей своих собственных ошибок».
Там же Пирогов говорит, что если подобные признания неудобны или не могут быть сделаны сразу, то он обязательно поведает о своих ошибках впоследствии.
Я немного не застал знаменитого андролога профессора медицинского факультета Московского университета Федора Ивановича Синицына, но мне неоднократно рассказывали его ученики – мои старшие друзья А.В.Иванов, Т.П.Краснобаев, Ф.А.Гетье, С.П.Галицкий, что в клинике Ф.И.Синицына вошли в обычай субботние «покаянные лекции», на которых Федор Иванович патетически бил себя в грудь, каялся перед студентами в своих грехах, то есть технических неудачах, кои почти всегда были одного и того же свойства: «ложные ходы» при бужировании уретральных стриктур с мочевыми затеками и септическими флегмонами. Не думаю, чтобы даже при огромном клиническом и операционном материале, который концентрируется в Институте Н.В.Склифосовского, у нас на каждую субботу набирался бы материал для «покаянных лекций»; слишком велики успехи хирургии за истекшие 40 лет! К тому же решительно все диагностические ошибки и сколько-нибудь примечательные смертельные исходы, будь то после операций или без оных, непременно разбираются на регулярных патологоанатомических конференциях раз в две недели. Зато за 35 лет моей хирургической деятельности накопилось пять – шесть, а то и целый десяток таких трагических ошибок, которые я не могу забыть десятилетиями, и которые так глубоко потрясли мои сознание, чувство и совесть, что, вспоминая о них, я их снова переживаю, как вчера, как сегодня. Это ли не отличный, поучительнейший материал для иллюстраций лекций!
И уж конечно, излагая самым ясным и доходчивым образом сущность заболевания, подробно рассказывая о всех объективных трудностях диагноза или производства операции, я не жалею красок, чтобы обрисовать весь трагизм создавшейся роковой ситуации. При этом я не только не щажу себя и совершенно не пытаюсь выгораживать или ослаблять свои былые ошибки, но главнейшей своей задачей делаю анализ того, как, почему такая ошибка могла случиться. Было ли это следствием неопытности, незнания существующих исключений и резких отклонений от типических стандартных форм и проявлений болезни, или же исключительность симптоматологии была такова, что ввела бы в заблуждение даже самого опытного клинициста? Не было ли упущено какое-нибудь важное лабораторное или инструментальное исследование, или допущена переоценка какого-нибудь второстепенного симптома в ущерб намека, но решающего по своему значению?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу