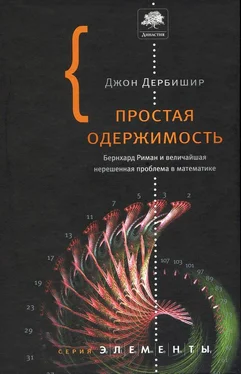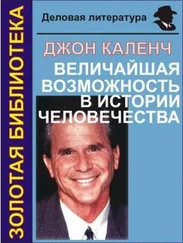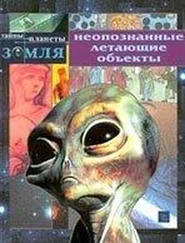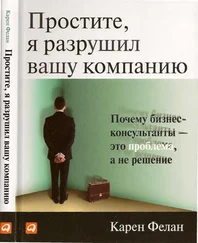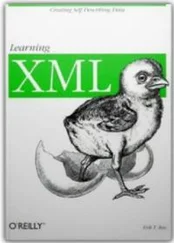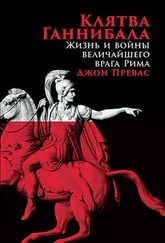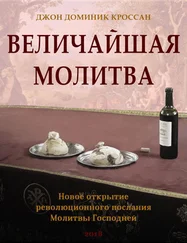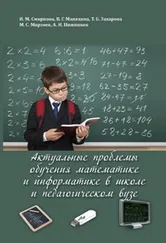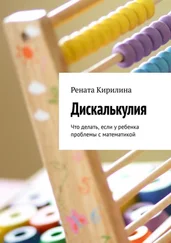Когда в 1897 году Харди трудился в Тринити-колледже над диссертацией, на глаза ему попался знаменитый в то время учебник Cours d'Analyse [123]написанный французским математиком Камилем Жорданом. Жордан известен тем, кто изучает теорию функций комплексной переменной, поскольку в ней есть теорема Жордана, утверждающая примерно следующее: несамопересекающаяся замкнутая плоская кривая (например, окружность) разбивает плоскость на две части: внутреннюю и внешнюю. Эту теорему необычайно трудно доказать — Эстерман говорит о собственном доказательстве Жордана как об «интеллектуальном подвиге». По-видимому, Cours d'Analyse произвел на Харди примерно такое же впечатление, какое Гомер в переводе Чапмена произвел на Китса. [124]
После того как Харди приняли в Тринити-колледж (в то самое лето, когда Гильберт выступал со своей речью), он посвятил несколько последующих годов написанию работ по анализу.
Одним из плодов раннего увлечения Харди анализом стал учебник для студентов, называвшийся «Курс чистой математики», впервые вышедший в 1908 году и с тех пор никогда не перестававший издаваться. Как и большинство британских студентов XX века, я учил анализ по этой книге. Мы называли ее просто «Харди». Заглавие книги в сильной степени вводит в заблуждение, потому что там на самом деле нет ничего, кроме анализа, — никакой алгебры, никакой теории чисел, никакой геометрии, никакой топологии. Правда, никто не обращал на это внимания. В качестве введения в классический (т.е. в рамках XIX века) анализ этот учебник близок к идеалу настолько, насколько это вообще возможно для учебника. Его влияние на мой собственный подход к математике оказалось огромным. Когда я смотрю на то, что уже написано в этой книге, я явственно вижу Харди.
III.
Г.X. Харди был чудаком такого рода, который только Англия XIX века могла породить. В старости он написал довольно занятную книгу под названием «Апология математика» (1940), в которой описал свою жизнь как математика. В некоторых отношениях это печальная, точнее, элегическая книга. Причину этого прекрасно выразил Ч.П. Сноу в своем предисловии к последующим изданиям. Харди был Питером Пэном — мальчиком, который так и не вырос. По словам Сноу, «до старости жизнь его оставалась жизнью блестящего молодого человека. Таким же оставался и его дух — его игры, его интересы поддерживали легкость молодого дона. [125]И, как и у многих людей, которые сохраняют интересы своей молодости до седьмого десятка, его последние годы были из-за этого не очень веселыми». А вот что пишет Литлвуд: «До тридцатилетнего возраста он выглядел невероятно молодым». Харди играл в крикет, к которому питал настоящую страсть, а также в теннис на закрытом корте (известный также как real (royal) tennis или jeu de paume) — игру более трудную, требующую большего интеллекта, чем обычный теннис.
В течение 12 лет, с 1919 по 1931 год, Харди возглавлял кафедру в Оксфорде. На 1928-29 академический год он уезжал в Принстон, а остальную часть своей жизни провел в Тринити-колледже в Кембридже. Приятный и обходительный, он никогда не был женат и, насколько известно, не имел никаких близких привязанностей какого бы то ни было сорта. Следует помнить, что в те времена колледжи в Оксфорде и Кембридже были учреждениями только для мужчин, с сильным оттенком женоненавистничества. До 1882 года сотрудникам Тринити-колледжа не разрешалось жениться. Недавно, вполне в духе нашего времени, высказывались предположения о гомосексуальности Харди. Я отошлю любознательного читателя к написанной Робертом Канигелом биографии Сринивасы Рамануджана [126], которому Харди оказывал поддержку, — «Человек, который знал, что такое бесконечность»; там эта тема обсуждается более подробно. Ответ представляется таким: скорее всего нет, разве только в самых сокровенных мыслях.
Историй о Харди даже больше, чем историй о Гильберте — одну из них, как я понимаю, я уже рассказал. Вот две другие, причем в каждой из них присутствует Гипотеза Римана. Первая взята из его некролога в британском научном журнале Nature.
У Харди была одна главенствующая страсть — математика. Помимо этого его основными интересами были игры в мяч, в которых он был опытным игроком и искушенным экспертом. Его пристрастия и антипатии иллюстрируются списком из «шести новогодних пожеланий», который он открыткой отправил другу (в 1920-х годах):
1) доказать Гипотезу Римана;
2) в четвертом иннинге последнего Тест-матча на «Овале» сделать 211 пробежек, пока не выбит никто из игроков своей команды. [127]
Читать дальше