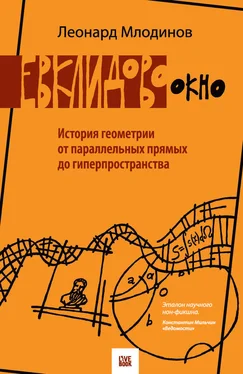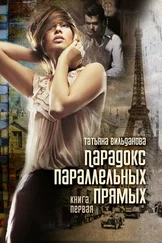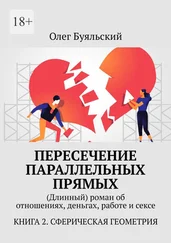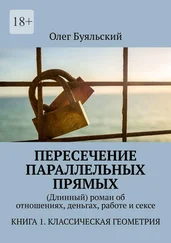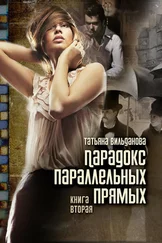Гильберт полностью посвятил себя прояснению фундаментальных основ геометрии (а впоследствии помог развить общую теорию относительности Эйнштейна). Он многократно пересматривал свои формулировки — до самой смерти в 1943 году. Первый шаг его метода — превращение неявных допущений Евклида в развернутые утверждения. В свою систему Гильберт — по крайней мере в седьмом издании своего труда в 1930 году, — включил восемь не определенных понятий и увеличил число аксиом Евклида с десяти (включая общие утверждения) до двадцати [191]. Аксиомы Гильберта разделили на четыре группы. Они включают в себя не опознанные Евклидом допущения вроде тех, что мы уже рассмотрели:
…
Аксиома I-3: Каждой прямой a принадлежат по крайней мере две точки. Существуют по крайней мере три точки, не принадлежащие одной прямой.
Аксиома II-3: Среди любых трех точек, лежащих на одной прямой, существует не более одной точки, лежащей между двумя другими.
Гильберт и другие ученые доказали, что все свойства евклидова пространства можно вывести из этих аксиом.
* * *
Революция искривленного пространства глубоко повлияла на все области математики. Примерно со времен Евклида и до работ Гаусса и Римана, обнаруженных посмертно, математика была по большей части дисциплиной прагматической. Евклидова структура воспринималась как описание физического пространства. Математика в некотором смысле была разновидностью физики. Вопросы непротиворечивости математических теорий казались порожними — доказательства следовало искать в физическом мире. Но к 1900 году математики осознали, что аксиомы — спорные утверждения, они суть всего лишь основа системы, следствия которой необходимо изучать в некоем подобии умозрительной игры. Внезапно математические пространства превратились в абстрактные логические конструкты. Природа физического пространства стала самостоятельным предметом, вопросом физики, а не математики.
Перед математиками встал вопрос совсем нового свойства: доказательство логической непротиворечивости их построений. Понятие доказательства, переместившееся за последние века развития расчетных методик на заднее сиденье, вновь стало главенствующим. Состоятельна ли геометрия Евклида? Самый лобовой способ доказать непротиворечивость логической системы — доказать все мыслимые теоремы и продемонстрировать, что ни одна не противоречит другой. Поскольку существует бесконечное количество возможных теорем, такой подход годится лишь тем, кто планирует жить вечно. Гильберт опробовал иную тактику. Как и Декарт с Риманом, Гильберт определили точки в пространстве через числа. В случае с двухмерным пространством, например, каждая точка соответствует паре действительных чисел. Превратив точки в числа, Гильберт смог перевести все фундаментальные геометрические понятия и аксиомы в арифметические. Так доказательство любой геометрической теоремы переводится на язык арифметических или алгебраических действий с координатами. А поскольку любое геометрическое доказательство следует логически из аксиом, арифметическая интерпретация должна вытекать из аксиом, облеченных в арифметическую форму. Если в геометрии возникает противоречие, оно проявится и при переводе на язык арифметики, а если арифметика непротиворечива, стало быть, стройны и гильбертовы формулировки евклидовой геометрии (для неевклидовых геометрий эти действия тоже были позднее проделаны). Яснее некуда? Хотя в итоге Гильберту и не удалось доказать абсолютную непротиворечивость геометрии, доказать относительную непротиворечивость он все-таки смог.
Из-за бесконечности числа возможных теорем абсолютная непротиворечивость геометрии, арифметики и, если уж на то пошло, всей математики — дело куда более трудоемкое. Чтобы разобраться и с этим, математики изобрели абстрактную теорию объектов, имеющую с ними дело на самом общем уровне, независимо от всяких особенностей того, чем они на самом деле являются. Эта теория, которую ныне преподают в большинстве общеобразовательных школ, называется теорией множеств.
И все-таки даже самая простая теория множеств сталкивается с путаными парадоксами: один такой был опубликован в 1908 году в малоизвестном журнале «Abhandlung der Friesschen Schule» Куртом Греллингом и Леонардом Нелсоном. Греллинг и Нелсон рассматривают множество слов. Возьмем, во-первых, множество всех прилагательных, описывающих сами слова. Например, слово «двадцатиоднобуквенный» само, да, состоит из двадцати одной буквы, а прилагательное «многосложный» — многосложно. В пику этому множеству есть множество всех прилагательных, которые себя не описывают. На ум почему-то приходят слова типа «хорошо написанный», «поразительный» и «другу рекомендуемый» (если в этой книге и есть хоть одно предложение, которое стоит вызубрить, — вот оно). Последнее множество называется гетерологическим — вероятно, оттого, что «гетерологический» само по себе многосложно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу