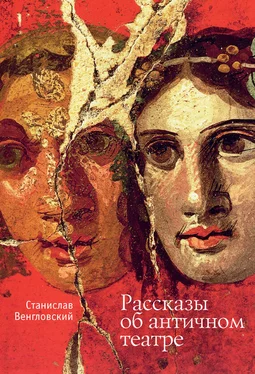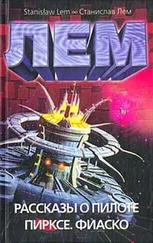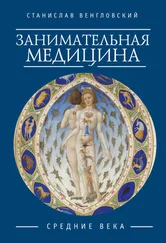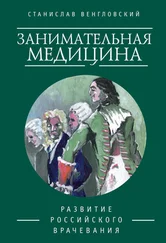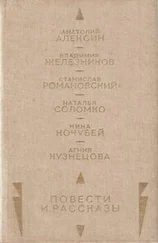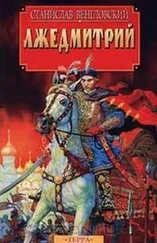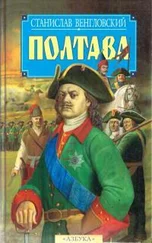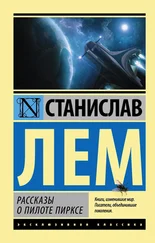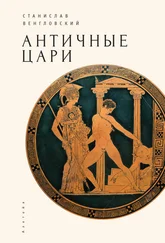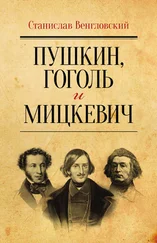Для Марии Дмитриевны ничего не значили основательные теоретические познания, ориентирование во всей грамматике языка. Для нее важна была прямо-таки бухгалтерская точность каждой проставленной буквы, каждого подстрочного знака. Любое несоблюдение этого принципа выводило ее из себя, бросало в мелкую дрожь. Что уж говорить о непременно подвернутой ею под зад конечности, «козьей ножки»… Лучше не вспоминать…
Разумеется, я тотчас смекнул, что речь здесь идет не просто о контрольной работе, но о чем-то гораздо большем. Понял, что мне предстоит одолеть серьезнейшее препятствие. Что преподаватели, несомненно, располагают бóльшими возможностями, нежели студенты. (К тому же – в тоталитарной стране, где все подчинено строжайшей иерархии! Правда, мысль о тоталитарном строе в Советском Союзе не приходила мне в голову). Что же, как говорят французы – a malin – malin et demi (что-то вроде русской пословицы «Нашла коса на камень»). Я подготовился как следует, вызубрил по конспекту весь надлежащий материал. Но и повторная попытка не доставила мне особого удовольствия. Мария Дмитриевна нашла какие-то важные промахи в новой работе, какие-то пропущенные мною подстрочные знаки, нечетко проставленные, что ли… Одним словом, едва-едва перевалил я черту, отделявшую знающего от незнающего. У Марии Дмитриевны каждое лыко шло в строку…
Это было похоже на крах.
К тому же я твердо предчувствовал, что наш «поединок» с Марией Дмитриевной только лишь начинается. Приняв вызов, скорее по врожденной инерции, я все ж ощутил в душе какое-то отвращение к подобному состоянию науки. Понял, что туда меня просто не пустят…
Впрочем, кто ведает, чтó могло быть дальше?
Быть может, своей дотошностью Мария Дмитриевна могла бы сослужить мне даже очень полезную услугу: довести до надлежащей кондиции. Стряхнув с себя лень, я бы взялся за ум, научился надежной аккуратности… Переродился бы…
Однако судьба не стала меня (да и всех «одногруппников») подвергать искушению.
Почти с самого начала второго семестра Мария Дмитриевна стала заметно прихварывать. К плохо скрываемому моему удовольствию, она не явилась несколько раз на занятия. Затем стала назначать нашей группе встречи у себя дома, на улице Плеханова.
Не исключено, разумеется, что за всем этим скрывались какие-то внутрикафедральные интриги. Все-таки потеря двух первокурсников из шести, да еще болезнь одного из них, заставившая его уйти в академический отпуск… Это не шутка. Это бросало тень на работу всей кафедры…
Короче говоря, в связи с недугами Марии Дмитриевны мы перешли под ферулу уже упомянутого мною заведующего нашей кафедрой.
Заведующим кафедрой у нас был выдающийся знаток античного мира – Аристид Иванович Доватур, узник сталинского режима, который стал одним из героев эпопеи Александра Солженицына «Архипелаг Гулаг». В ней Аристиду Ивановичу посвящена почти целая страница. Солженицын охарактеризовал Доватура как отвлеченного от сиюминутной, окружающей жизни любителя древностей, этакого Gelehrte (ученого), ошарашенного невесть откуда свалившейся напастью.
Нисколько не умаляя всесторонности ума Аристида Ивановича, добавлю все же, что ему не удалось избежать универсальной болезни, от которой страдали многие люди, безвинно подверженные репрессиям. Интеллигент до мозга костей, ничуть не борец по натуре, как вполне справедливо считалось на кафедре, он до конца своих дней не мог избавиться от смятения, от громадного страха, внушенного при аресте.
Впрочем, в этом тоже нет ничего удивительного. В таком же положении, по свидетельствам современников (хотя бы А.Панаевой), оказался выдающийся русско-украинский историк Н.И.Костомаров, знаменитый писатель Ф.М.Достоевский и масса прочих людей, содержание которых в царских тюрьмах и ссылках не идет ни в какое сравнение с «зэками» советского режима.
В памяти почти всех студентов, когда-либо обучавшихся у него, Аристид Иванович оставил самые теплые воспоминания. По моему убеждению, все это вытекает опять же из того бездонного страха. Аристид Иванович успел заглянуть в такие таинственно-мрачные уголки человеческой натуры, что вынес оттуда только одно: да какое значение имеют знания или незнания конкретным человеком основ греческого, латинского или какого-нибудь иного, самого экзотического языка? Какое вообще имеют значение знания в сопоставлении с изначальной человеческой природой? К примеру, он мог похвалить студента слишком неоднозначными словами: «Обратите внимание, друзья мои, на этого молодого человека: он совершенно не знает латыни!» Что же касается знаний – любой человек способен сам приложить потребные для того усилия. Главное со стороны наставника – не мешать подопечному поступать и действовать по своему разумению, предоставив ему возможность развиваться в соответствии с тем, что предназначено судьбою.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу