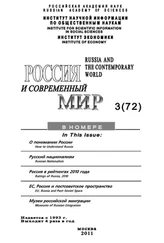Бердяев в книге «Смысл творчества: опыт оправдания человека» (1916) истолковывал теургию как искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту как сущее. Теургия есть действование совместно с Богом. Это в классическом православном христианско-мистическом смысле – Богодейство.
К Бердяеву близок С. Булгаков, он ставит вопрос о необходимости соединения искусства с теургией в едином акте преображения твари. В области собственно художественного творчества наиболее яркие теурги той поры – выдающиеся творцы – поэт-символист Вячеслав Иванов и композитор-«космист» А. Н. Скрябин.
Замечу, что при всей несходимости русских и немецких концепций общим средостением и там, и там был человек, он наделялся во всех вариантах сверхчеловеческими функциями теурга, с Богом – у русских, без христианского Бога – у Ницше и ницшеанцев. В русском символизме происходило противоборство тех и других идей и позиций, воплощавшихся в индивидуальных творческих концепциях.
Не касаюсь здесь уже упоминавшегося вопроса об антиницшеанцах, «соборниках» и космистах Вяч. Иванове и Скрябине, а также и натурфилософского «космизма» (автора антиэнтропийной концепции В. И. Вернадского, основателя русского реального космизма Циолковского и «космистов» 1920—1930-х годов). Упомяну о других, «мятущихся», выдающихся русских символистах того времени – об А. Блоке и А. Белом. Блок в знаменитой статье «Интеллигенция и революция» (1918) явно находился под влиянием эсхатологического «обаяния» Ницше. Формулируя свое понимание кризиса гуманизма, он утверждал, что цель нового человека, нового артиста – жить и жадно действовать в открывшейся дионисийской эпохе «вихрей и бурь». Кстати, Вяч. Иванов в том же году в своих лекциях о Скрябине также впадает в дионисийство.
Идеями вселенской «переделки» человека и мира, вселенского преобразования пропитана вся ранняя советская литература: В. Маяковский, В. Хлебников, ранний А. Платонов… Скажу здесь только о Платонове. Его творческая траектория – может быть, самая мучительная трагедия русского теургизма, одна из самых показательных инверсий коммунистического «технокосмизма», перерождения утопии в антиутопию. В его романе «Котлован» она воплотилась в образе «народной трагедии», переродившейся в «трагический абсурдизм». В «Котловане» писатель приходит к отрицанию стадной коммунистической общности, и перед читателем предстает ужасающая картина разверстанных и растоптанных душ и сердец народа, доведенного до того последнего предела и состояния, когда рождается особый, мощный юродивый язык, заставляющий вспомнить писавшего в XVII в. первого выдающегося русского писателя, наделенного яркой личностной и стилистической индивидуальностью, – протопопа Аввакума.
И. Бродский в эссе «Катастрофы в воздухе», посвященном Платонову, писал: «Если я воздерживаюсь от утверждения, что Платонов как писатель крупнее Джойса, Музиля или Кафки, это не потому, что такие оценки отдают дурным вкусом, но и потому, что, по сути, в существующих переводах он остается для читателя недоступным <���…> виновная сторона здесь сам Платонов, или точнее стилистический экстремизм его языка <���…> вместе с экстремальной ситуацией, волнующей Платонова» [78].
Платонов – «писатель эсхатологический, хотя бы потому, что он обрушивается на главного носителя хилиазма в русском обществе, то есть на сам язык или же, если выразиться более доходчиво, – на революционную эсхатологию, заложенную в русском языке». «…Платонов пишет на языке этой качественной перемены, на языке повышенной близости к новому Иерусалиму, или точнее, на языке строителей Рая, – или, в случае “Котлована”, раекопателей. Но идея Рая есть логический конец человеческой мысли, в том смысле, что дальше она, мысль, не идет, ибо за Раем ничего нет, ничего не происходит. И потому можно с уверенностью сказать, что Рай – это тупик, это последнее видение вещей, вершина горы, пика, с которого шагнуть некуда, разве что в чистый Хронос, в связи с чем и вводится понятие вечной жизни…». Далее Бродский продолжает: первой жертвой в этом тупике становится язык: «Каждая его <���Платонова> фраза заводит русский язык в смысловой тупик, или, вернее, обнаруживает тяготение к тупику, тупиковую философию в самом языке. <���…> При чтении Платонова возникает ощущение безжалостной, неумолимой абсурдности, исходно присущей языку, и ощущение, что с каждым новым, неважно чьим, высказыванием эта абсурдность усугубляется, и что из этого тупика нет иного выхода, как отступить назад, в тот самый язык, который тебя в него завел <���…> Возможно также, что эффекты подобного рода можно создать не только в русском языке, хотя присутствие абсурда в грамматике говорит не только о конкретной языковой драме, но и о людском роде в целом <���…> Просто Платонов был склонен доводить свои слова до их логического конца – то есть абсурдного, то есть полностью парализующего конца. Иначе говоря, как никакой другой русский писатель, Платонов сумел выявить саморазрушительный, эсхатологический элемент внутри самого языка, а это, в свою очередь, очень многое выявило в революционной эсхатологии, которую история предложила ему в качестве материала» [79].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
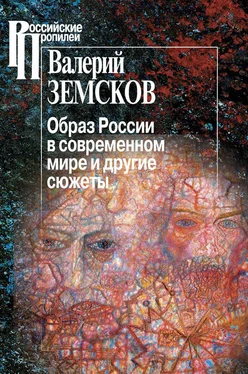
![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)