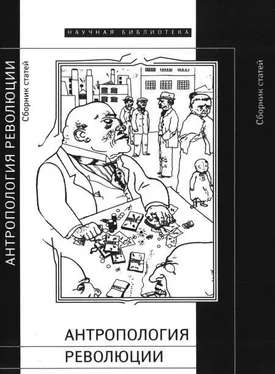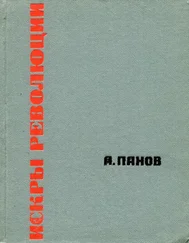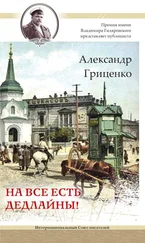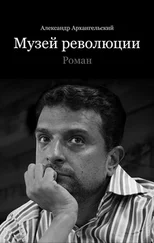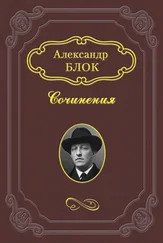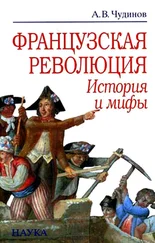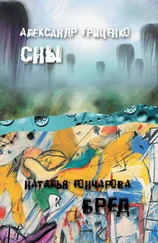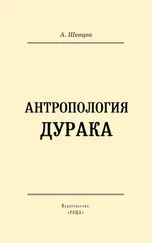Одна из магистральных тем исследований революции в последние 30 лет — участие интеллектуалов в трансформациях разного уровня. Они могут выступать как создатели языка и символических структур революционного общества или как сознательные агенты «трансляции» выработанных идеологами революции лозунгов и риторических практик в другие социальные сферы (в первую очередь здесь следует назвать исследования Р. Дарнтона и М. Ямпольского [14] Среди многочисленных публикаций этих двух авторов укажем: Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. с англ. Т. Доброницкой и С. Кулланды. М., 2002. С. 173–299; Ямпольский М. Б. Физиология символического. Кн. 1: Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец Старого режима. М., 2004. Часть 2 (с. 287–546).
). В нашем сборнике эта традиция представлена работами И. С. Дмитриева, А. Семенова и О. Лекманова. И. С. Дмитриевдемонстрирует, как в физических исследованиях Пьера Лапласа идеология наполеоновской экспансии была преобразована в яркие метафоры научной картины мира и как этому способствовали психологические качества знаменитого ученого. Александр Семенов, анализируя на «микроуровне» язык ранней публицистики П. Б. Струве и П. Н. Милюкова, описывает, как в революционную (до 1905 года) риторику русских либералов оказался инкорпорирован язык становящейся в России научной социологии. Семенов предполагает, что именно этот, выработанный русскими либералами язык описания предопределил исследовательскую оптику Макса Вебера в его статьях о политической истории России начала XX века. Олег Лекмановобсуждает позицию известного поэта Александра Тинякова, который в 1918 году обрушивается с публичными проклятиями за контрреволюционные настроения на одного из своих ближайших «соседей» в области собственно литературной — Зинаиду Гиппиус.
Авторы раздела «Интериоризация революции» на материале литературы обсуждают вопрос о том, как возможны «коперниканские повороты» в сознании отдельного человека — и здесь речь идет не о политических взглядах, но прежде всего о понимании природы человека в целом. Тем не менее в обоих случаях эти повороты «резонируют» с радикальными общественными трансформациями: в статье Екатерины Дмитриевойпоказано, как либертинаж в литературе и в жизни, парадоксальным образом осознаваемый как новый тип «самовоспитания», был связан с важнейшими изменениями смысловых порядков предреволюционной Франции XVIII века, а в статье Елены Михайлик— как переворот в литературе, осуществленный Варламом Шаламовым, наследует революционаристским концепциям ЛЕФа и в то же время опровергает их глубинные основания.
Раздел «От символов — к ценностям»посвящен антропологическим проекциям революционных дискурсов в современной истории — от межвоенного периода до новейших «цветных» революций. Статья Балажа Тренченирассматривает различные версии «консервативной революции» в Венгрии, Болгарии и Румынии первой половины XX века: тогда поиск ответов на вызовы модернизации заставил идеологов политического национализма трансформировать устоявшиеся представления об их народах в динамичные категории национальной «субъектности». Безоговорочно критикуя общее направление этих изменений, автор внимательно анализирует модернистские компоненты «консервативно-революционных» идеологий и их связь с концепциями социального, идейного и эстетического обновления рубежа веков, а также причины, обусловившие протофашистский крен подобных политических начинаний. В рамках своей прагматической социологии и теории «градов» (а также «порядков величия») Лоран Тевеноисследует образные мотивы и дискурсивные инверсии как событий мая 1968 года, так и их последующих реинтерпретаций. Критика иерархий в рамках студенческого и рабочего протеста, обернувшаяся на рубеже XX–XXI веков гегемонией «режима исканий» (творчества, опыта, риска), как раз и дает пример несовпадения идеологических самоописаний и событийной динамики новейших революций, и особенности субъектной организации событий выдвигаются на первый план. Александр Гриценко, обращаясь к мобилизационным стратегиям современных украинских политических движений, показывает, что решающими в послереволюционной ситуации становятся не сами лозунги или региональные идентичности, как полагает большинство наблюдателей или политологов, — гораздо более важной в ситуации неопределенности оказывается динамика ценностных предпочтений избирателей, едва ли целиком просчитываемая и «технологизируемая», а также изменения их социокультурных ориентиров, радикально отличные от тех, что были реализованы в России 2000-х годов.
Читать дальше