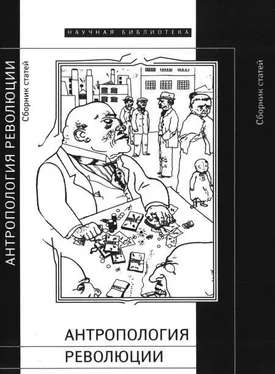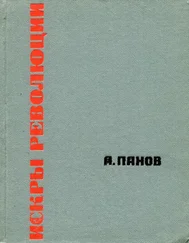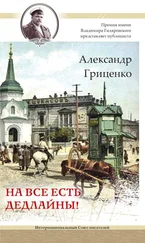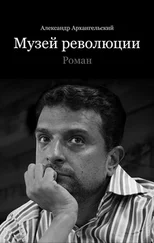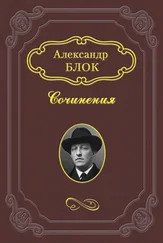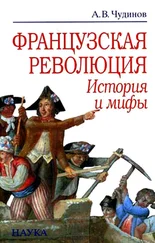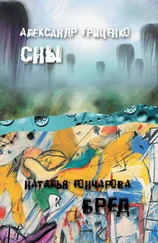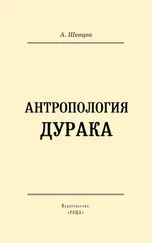Среди них инструктор отдела пропаганды Владимир Водолагин (7), инструктор, завсектором отдела пропаганды Владимир Михайлов (5), инструктор, завсектором, заведующий отделом пропаганды Борис Стукалин (5).
Примечательно, впрочем, что ни один из упоминавшихся «чекистов» не доработал в этом качестве даже до 1941 года. «Отцы» вовремя уходили с такой работы (в 1920-е — первой половине 1930-х годов), «дядья» поступали так же, но нередко подвергались репрессиям.
Подробнее о нем и его отце см.: Меньшиков С. О времени и о себе. М.: Международные отношения, 2007.
Подробнее о нем и его семье см.: Вознесенский Л. А. Истины ради… М.: Республика, 2004.
Биккенин Наиль. Как это было на самом деле: сцены из общественной и частной жизни. М.: Academia, 2003. С. 34–35. При этом мемуарист не указывает, как звали его именитого родственника и даже к какой линии (отцовской или материнской) он принадлежал. В книге воспоминаний о Биккенине родственники и друзья уточняют, что речь идет о депутате от Оренбургской губернии Зигангире Нургалиевиче Байбурине (1852–1915), выпускнике Казанского университета и медике по образованию (хотя при вхождении в Думу он записался крестьянином) (см.: Человек из XX столетия: Наиль Биккенин: философ, журналист, политик… / Сост. А. Б. Кравченко. М., 2008. Электронный вариант неопубликованной книги. Автор благодарит Александра Лисина за предоставление этого текста). Однако в подготовленной для этой книги справке отсутствует информация о том, что в 1906–1907 годах Байбурин возглавлял губернскую панисламистскую политическую организацию, действительно близкую к кадетской партии. Отсутствует и упоминание о том, что при регистрации в Думе Байбурин указал себя «башкиром», что, возможно, объясняет, почему однозначно идентифицирующий себя в качестве татарина Биккенин не стал перечислять фамилии родственников по матери.
[ Автор не указан. ] Большая семья // Вечерний звон. Суздаль. 2004. 13 июля.
Интересно, что в интервью, данном автору этой статьи, и в обширной публикации о своей семейной истории на страницах суздальской газеты «Вечерний звон» (2004. 13 июля) Рудольф Яновский ни слова не сказал о старшем брате своего отца — протоиерее Борисе Александровиче Яновском, который был репрессирован в 1932–1936 годах, но затем до 1961 года служил в г. Киржаче (расплывчато говорилось лишь о многодетности семьи деда будущего работника аппарата), и нам пришлось реконструировать этот факт с помощью Интернета. См.: Лебедев Михаил. Собор новомучеников и исповедников российских // Молва (Владимир). 2007. 20 февраля [http://www.religare.ru/article38477.htm].
[ Автор не указан. ] Актерский талант Яновского-старшего // Вечерний звон. Суздаль. 2004.13 июля.
Тетка рассказчика, как упоминалось выше, была актрисой театра им. Вахтангова, и семья дружила с некоторыми из ее коллег.
Авторское название песни — «То, что я должен сказать (Их светлой памяти)». Последняя приводимая А. Козловским цитата — контаминация двух первых строк строфы: «Закидали их елками, замесили их грязью / И пошли по домам — под шумок толковать, / Что пора положить бы уж конец безобразию, / Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать» (1917). По наиболее распространенной в мемуарах версии, «песня была создана в Москве в 1917 г. в октябрьские дни большевистского переворота, и в ней говорится о москвичах-юнкерах, ставших жертвами этого события» ( Розенфельд И. Александр Вертинский. «То, что я должен сказать» // Terra Nova. 2005. № 5).