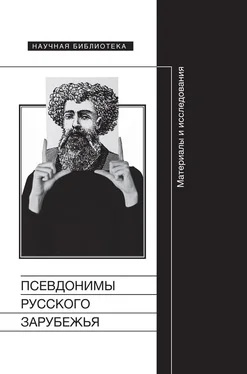Книге об отмене крепостного права в России «19 февраля 1861 года» (РР, 12) он противопоставляет брошюру «старого орловца» [484]«Освобождение крестьян в Пруссии» (РР, 14; под псевдонимом: А. Орловский) и брошюру «Сельское хозяйство в Германии» (РР, 109; псевд.: В. Никольский), которая начинается с утверждения, что «положение […] прусского крестьянина […] было неизмеримо лучше русского крепостного крестьянина» (С. 1). Брошюре о «Голоде в древней Руси» (РР, 33) он противопоставляет брошюру «Попечение о бедных в Германии» (РР, 83; псевд.: Ф. Артемьев) и брошюру «Экономические силы Германии» (РР, 107; псевд.: Л. Дроздов), которая начинается с констатации «блестящего экономического развития Германии» (С. 1). Все это идет со ссылками на культурность немецкого народа, на Гете, автора «величайшего создания германского гения» Фауста (РР, 101. С. 1), и на Шиллера (РР, 52).
Апогей творений Лютера – брошюра «Германская интеллигенция и война» 1915 г. (РР, 35; псевд.: М. Кабанов). Пользуясь фамилией реально существовавшего автора «Донской речи» 1905 года [485], Лютер скрывается здесь под маской «своего» человека, который только что вернулся в Россию, проведя, дескать, только что год «в Швейцарии» и познакомившись там «с представителями германской интеллигенции», мнения которых он хочет изложить «русскому читателю» (С. 1). На самом деле же Лютер жил во время писания брошюры в той части Саксонии, которая известна под названием «Саксонская Швейцария». А в самой брошюре он всего лишь многословно перефразирует тезисы упомянутого выше «Воззвания к культурному миру» германских профессоров, утверждавшего, что не Германия развязала войну, оправдывавшего все предпринятые немцами в этой войне «мероприятия» («разгром Лувена», «потопление “Лузитании”») (С. 9) и т. д. Отрицая приписанный «германскому национальному характеру» «милитаризм […] в смысле грубой солдатчины» (С. 8), он утверждает, что сущность «германского национального характера» скорее надо обозначить словом «мастер (Meister)» (С. 8). Немецкий народ, таким образом, «мастер», которому подобает иметь «колонии» (С. 3), причем «мастер», у которого есть чему поучиться русскому, находящемуся у немца в плену (С. 26), т. е. прямо как Пятнице у Робинзона, не случайно тот представлен у Дефо в самом начале книги как «a foreigner of Bremen» (т. е. родом из немцев) и учит Пятницу произносить слово «мастер» («taught him to say Master») [486].
Военнопленные, конечно, быстро заметили, что за «кукушкины яйца» подсунули им [487]. Ярче всего об этом свидетельствует вышедшая в 1917 г. книга «Два года в германском плену» [488]бывшего военнопленного Юрия Ивановича Шамурина (не позднее 1888–1918) [489], который подробно описывает, как устраивались библиотеки, как они снабжались литературой (газетами, журналами, книгами), чтобы «сделать пленных друзьями Германии и почитателями германской культуры» [490].
Конкретно Ю. И. Шамурин иллюстрирует «лицемерие», «подлог» и «ложь» (С. 24) этой «затеи прусского военного министра» (С. 26) на примере брошюр «таинственного» издательства «Родная речь» (С. 25). Среди них он особо выделяет брошюры «неведомых авторов» Ф. Артемьева, М. Кабанова и др., т. е. брошюры Лютера, которые сразу «зарождали подозрение» (С. 26). В особенности он упоминает здесь брошюру о Германской интеллигенции (С. 26), где автор в «позе культуртрегера» славословит Германию Гете и Шиллера – Германию, которой давно уже нет, о чем писал Шамурин уже в начале войны [491]. И кончает Шамурин тем, что все эти брошюры, «как бы они ни разоблачали Россию и ее союзников, как бы они ни нахваливали Германию, бессильны [были] […] ослаблять ту непримиримую ненависть и отвращение, которые внушили русским военнопленным германцы и Германия» (С. 26).
Неудивительно, что еще двадцать лет спустя в известном фильме Жана Ренуара «Великая иллюзия» (1937) собравшиеся в лагерном бараке русские военнопленные Первой мировой войны, получившие пакет с книгами, «набрасываются на посылку, начинают рвать книги, прежде чем сжечь этот подарок, сопровождая свои действия проклятиями и ругательствами» [492], которые в напечатанном в 1996 г. русскоязычном сценарии фильма дословно не передаются и которые не слышны во всех вариантах фильма, сегодня доступных через youTube [493].
После подготовки к печати 122-го выпуска серии война закончилась.
Отныне Лютер, буква за буквой, подкрадывается к настоящей своей фамилии. Кое-какие заметки выходят еще за подписью «– М—» [494]– то ли по первой букве фамилии главного редактора берлинской русскоязычной газеты «Русский вестник» 1918 г. М. В. Мейера (бывшего редактора петербургской немецкой газеты «Sankt-Petersburger Zeitung», в которой Лютер печатался), то ли по первой букве имени своей супруги Меты. Впоследствии он переходит на свои собственные инициалы А. Л., в частности в издаваемой М. Горьким в 1923–1925 гг. берлинской «Беседе» [495], пока не вернется окончательно к полному имени. Псевдонимами из «Родной речи», насколько нам известно, после 1918 г. Лютер больше не пользовался.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу