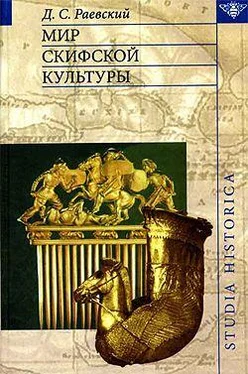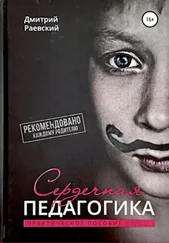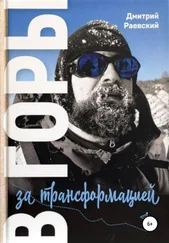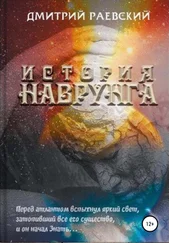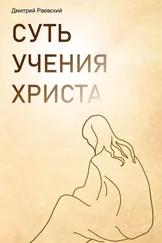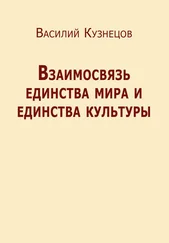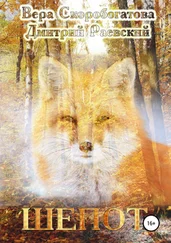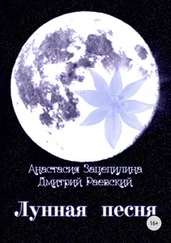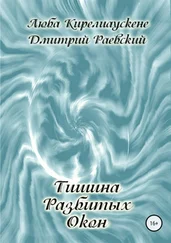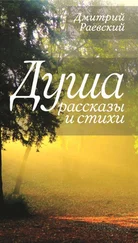Реконструкция «скифского мифа» имеет отнюдь не праздный интерес для современной культуры. Потребность в этом понимании именно «иного», которое не воспринималось бы как «чужое» и «чуждое», а, значит, ненужное и даже враждебное, как никогда актуальна для этой культуры. Отсюда – интерес европейской культуры XX в. к «третьему миру» и архаическому мифу, во многом сменивший традиционный с эпохи Возрождения интерес к античности: этот интерес был явлен и объяснен одним из пророков современной европейской культуры – Клодом Леви-Стросом. Для русской (и шире – восточнославянской) культуры, по словам Д. С. Лихачева, был свойствен интерес к «своей античности» – древней Киевской Руси; специфика этой древнерусской «античности», однако, и заключалась в том, что она была и остается «своей»; отношение к «чужому», «иному» – одна из самых сложных культурных проблем нынешней России. Между тем, у России была «иная» античность – античность в подлинном культурно-историческом смысле этого понятия. Эллины и скифы в Северном Причерноморье дали первый исторический образец понимания «иного» – культурного взаимопонимания, тот образец, который обогатил мировую культуру шедеврами скифского звериного стиля и греческой торевтики. В этом отношении античная эпоха и на юге Восточной Европы дает определенные основания для исторического оптимизма.
Исследования Д. С. Раевского отличает строгая и продуманная методика, что особенно важно, так как при обращении к вопросам семантики древнего искусства авторы нередко дают простор фантазии, приводящий к выводам, часто интересным, но по существу бездоказательным. В работах, посвященных скифской мифологии, Д. С. Раевский широко использовал и общие труды по первобытным религиям и фольклору, и письменные источники, и данные скифской материальной культуры, изученные со всей возможной полнотой. Обращаясь к применению этих разнородных материалов к изучаемому вопросу, автор применял общефилософский принцип соотношения общего, особенного и единичного. Под общим он понимал те общие черты в мифологии разных народов, которые необходимо учитывать, так как они вводят изучаемую культуру в контекст мировых систем, особенное, по его мнению, составляют черты, присущие только группе родственных или типологически близких культур, и наконец единичное объединяет элементы, присущие только изучаемой культуре, составляющие ее специфику. Как показал Д. С. Раевский, только сочетание этих подходов может привести к обоснованным выводам о мифологии бесписьменных народов. Большое внимание в своих исследованиях автор уделил именно особенному, то есть индоиранским корням скифской культуры. Ираноязычность скифов была обоснована многими исследователями, но для понимания специфики скифской культуры этот материал привлекался недостаточно, хотя были и исключения, как, например, работы Е. Е. Кузьминой. Д. С. Раевский подчеркивал то значение, которое имеет общеиранский и даже общеарийский мифологический пласт для реконструкции скифской мифологии. По его вполне обоснованному мнению, «степные иранцы» менее других ираноязычных народов подверглись влиянию инокультурной среды, поэтому именно у них можно ожидать сохранения ряда архаических черт, близких к общеиранским и общеарийским. Отсюда особое внимание, уделяемое автором Ригведе, Авесте и поздним иранским литературным памятникам, сохранившим мотивы раннеиранских мифов. Это позволило ему расшифровать целый ряд образов скифского изобразительного искусства и некоторых сведений античных авторов как элементов скифской мифологии. Опираясь на общеиранское и арийское наследие, автор смог убедительно истолковать в мифологическом ключе такие детали в донесенных античными авторами рассказах о скифах, которые исследователи, как правило, склонны были рассматривать как этнографические мотивы. Так, например, Д. С. Раевский продемонстрировал, что упоминание о плуге в первой генеалогической скифской легенде, рассказанной Геродотом, не может служить указанием на хозяйство племен, в среде которых возникла легенда, так как в данном случае плуг нужно рассматривать как общеиранский священный богоданный атрибут, представление о котором появилось значительно раньше перехода части скифов к кочевому образу жизни. Обращение к иранским литературным памятникам помогло автору объяснить особенности скифской изобразительной традиции в передаче лука сыну отцом, а не матерью, в чем многие исследователи видели вопиющее противоречие рассказу Геродота и соответственно толкованию изображений на сосудах, предложенному Д. С. Раевским. Изучение иранской и индоиранской традиций помогло истолковать значение таких образов скифского изобразительного искусства как водоплавающая птица и заяц, определить значение фигуры Таргитая в скифской модели мира, найти истоки представлений о четырехугольной конфигурации страны скифов, о Гестии / Табити и др.
Читать дальше