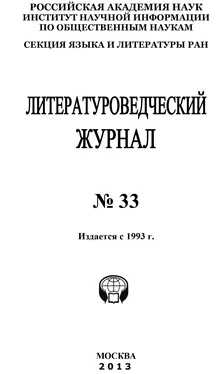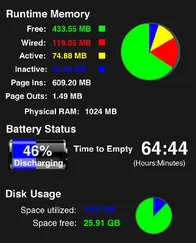5. Историзм XIX в. заново открыл исторические миры прошлого, которые прежде, конечно, были известны, но не вполне осознавались в своем качестве «эпох» и в своем влиянии на европейскую культуру в целом; так, И.Г. Дройзен сумел по-новому увидеть и оценить «эллинизм», а Ж. Мишле (1798–1874) и Я. Буркхардт (1818–1897) – романский «ренессанс» 60 60 Февр Л. Как Жюль Мишле открыл Возрождение [1950] // Он же. Бои за историю. – М., 1991. – С. 377–387.
. Ж. Мишле также перевел на французский язык и прокомментировал почти забытого к тому времени итальянского филолога-мыслителя, оппонента картезианского сциентизма Д. Вико с его «Новой наукой» (1725–1744), подготовив «ренессанс» Вико в ХХ в., в том числе в литературе (Д. Джойс).
Кризис историзма в конце XIX – начале ХХ в. породил в конце Нового времени две основные формы критики историзма – негативную и позитивную, – которые на протяжении минувшего столетия, разнообразно переплетаясь, одушевляли и определяли дискуссии о «модерне» и «постмодерне» как в философии, так и в литературной критике. Сегодня невозможно ни употреблять, ни игнорировать термин «историзм» так, как если бы этого кризиса не было: ведь именно основательная критика историзма делала и делает возможным его переоткрытие не только в отношении его прошлого, но и в отношении исторической современности. С одной стороны, еще в XIX в. появляется пейоративный термин « историцизм», фиксирующий и разоблачающий, начиная со второго из «Несвоевременных размышлений» Ф. Ницше – «О пользе и вреде истории для жизни» (1874), основные слабости, или последствия, историзма. Действительно, чем больше историзм из первоначального эстетико-метафизического переживания и замысла истории как возрастания культуры и прогресса становился реальным воплощением своих же исходных импульсов, тем больше этот замысел обнаруживал свою изнанку. С одной стороны, эстетически-антикварное любование прошлым «обжирал истории», которые видят в ней только зрелище – «космополитический карнавал религий, нравов и искусств» 61 61 Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни [1874] // Он же. Сочинения: В 2 т. Т. 1. – М., 1990. – С. 186.
, – грозило историческому познанию релятивизмом, утратой объективной истины в эмпирической множественности картин, мнений, событий. Сама по себе методологическая установка на объективное познание прошлого («как все было на самом деле») сама по себе оказалась проблематичной: она, как все более обнаруживалось, заключала в себе наивное допущение внеисторического «взгляда ниоткуда» – ее коррелят в «классическом» романе XIX в. представлен идеалом так называемого «всеведущего повествователя» (omniscient narrator) (Флобер, Теккерей, Л. Толстой и др.). С другой стороны, критика историзма в ХХ в. имела и глубоко позитивные следствия: научно-гуманитарная революция между двумя мировыми войнами – «настоящий кайрос понимающей историографии» 62 62 Ауэрбах Э. Филология мировой литературы [1952] // Вопросы литературы. – 2004 (сентябрь-октябрь). – С. 127.
– выросла из продуктивной дискуссии об историзме (прежде всего в Германии) 63 63 См.: Трельч Э. Историзм и его проблемы [1922]. – М., 1994; Мангейм К. Историзм [1924] // Он же. Очерки социологии знания. – М., 1998. – С. 119–179; Weizbort L. Erich Auerbach im Kontext der Historismusdebatte // Erich Auerbach: Geschichte und Aktualität eines europäischen Philologen / hg. Martin Treml u. Karlheinz Barck. – Berlin, 2007. – S. 281–296.
и привела к трансформации историзма на путеводной нити понятия «историчность» (Geschichtlichkeit), обоснованном еще В. Дильтеем 64 64 Renke-Fink L. Geschichtlichkeit. – Op. cit. (см. прим. 17); ср.: Сундуков Р. Значение термина «историчность» в немецкой философии XIX в. / Логос. – 2000. – № 5–6. – С. 78–88.
, радикализованном М. Хайдеггером в 1920-е и позднее модифицированном Г.-Г. Гадамером в его главной книге «Истина и метод» (1960). В контексте этого «герменевтического поворота» (продолжавшего «критику исторического разума» В. Дильтея) возникли такие ключевые понятия нового гуманитарного мышления, как «абсолютная историчность» (Э. Гуссерль), «слияние горизонтов» прошлого и современности в акте интерпретации (Г.-Г. Гадамер), «история рецепции» как проект истории литературы и философской эстетики нового типа (Г.Р. Яусс), «большое время» становящейся современности великих произведений прошлого (М.М. Бахтин). Важно отметить, что все эти ревизии историзма так или иначе противостоят «морфологической» критике историзма, представленной в знаменитом «Закате Европы» О. Шпенглера (1918–1920) – одном из первых в ХХ в. учений о «конце истории», которое, по словам Т. Манна, «не перешагнуло рубеж девятнадцатого века» 65 65 Манн Т. Об учении Шпенглера [1924] // Он же. Собр. соч.: В 10 т. Т. 9. – М., 1960. – С. 618.
. Одновременно и в прямой зависимости от «невиданных перемен» первых десятилетий ХХ в. возникли существенно иные, чем в XIX в., формы литературно-художественного познания, предметом которых (особенно в романе) стало само время , – сдвиг, анализу которого посвящена (среди необозримого числа западных исследований), в частности, последняя глава «Мимесиса» Э. Ауэрбаха (1946) 66 66 Ауэрбах Э. Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе [1946]. – М.; СПб., 2000. – С. 438–462. Ср. Фрэнк Д . Пространственная форма в современной литературе [1945] (см. сноску 36).
. В историографии ХХ в. позитивная критика традиционного историзма и «исторического сознания» характерна, в большей или меньшей степени, для таких влиятельных стратегий исторического мышления и познания, как французская «школа анналов» (М. Блок, Л. Февр и др.), исследования Ф. Броде-ля, немецкая школа герменевтической семантики (Р. Козеллек), американский и европейский «новый историзм» в литературоведении и в истории культуры (С. Гринблат, К. Гинзбург). Наконец, во второй половине ХХ в., наряду с разнообразными попытками преодолеть историзм XIX в. (вплоть до структурализма) имеют место отдельные попытки «реабилитации историзма» как термина , сохраняющего научно-методологическую, а равно и культурполитическую релевантность; например, в школе немецкого философа Й. Риттера (инициатора единственного в своем роде издания – «Исторического словаря философии», 13 томов, 1974–2004) понятие историзма ориентирует гуманитарные науки и общественное сознание на противодействие уже необратимой научно-технической «модернизации» мира жизни посредством так называемого научно-технического прогресса, который имеет тенденцию вытеснять все «слишком человеческое» из мира жизни вообще 67 67 Плотников Н.С. Реабилитация историзма. Философские исследования Германа Люббе // Вопросы философии. – 1994. – № 4. – С. 87–113.
. Во всяком случае, историю «нельзя больше понимать по Гегелю, как самоосуществление духа. <���…> Время нельзя больше рассматривать как нейтрально направленный процесс, оно воспринимается как четвертое измерение в высшем единстве пространства и времени» 68 68 Верле М. Общее литературоведение. – М., 1957. – С. 184–185.
.
Читать дальше