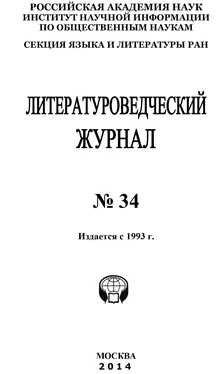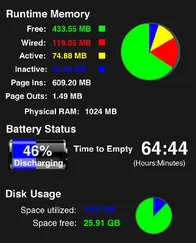Ключевые слова : американская славистика, рецепция, идентичность, стыд, методология.
Klimova S.M., Bardykova I.V. American slavists in the search of «true Dostoyevsky»
Summary. The authors analyze the heterogeneous character of American Slavic studies and in particular some currents in the quest for Russian identity. A sort of deconstruction of the contemporary American literary criticism as a way of «new» adaptation of Russian culture is made.
«Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя – и результаты вышли самые полные».
Ф.М. Достоевский
Американская славистика не просто занимается русской литературой, одновременно через ее восприятие формируется образ России, представление о русской идентичности, репрезентируются базовые концепты и смыслы русской культуры. Рецепция современной американской славистики важна в контексте межкультурного диалога и коммуникации интеллектуалов двух стран. Перед нами задача не просто воспроизвести некоторые идеи американских коллег, но и осуществить своеобразную деконструкцию самой славистики как способа «нового» присвоения русской культуры, сепарированного с помощью чужой ментальности.
По-прежнему одним из самых ярких символов «образа России» остается Ф.М. Достоевский, чье имя сопряжено с целым направлением «американского достоевсковедения», о котором надо говорить дифференцировано, переходя от первоначальных стереотипов и мифов о писателе как о «христианском философе, проповеднике страданий и русской души» (10-е годы XX в.) к образу Достоевского в 40-е и 60-е годы XX в. и последующей рецепции в эпоху постмодернизма или «неомодернизма» в XXI в. Традиционно рассмотрение любого произведения связано с герменевтикой, опирающейся на рецептивную эстетику. Такой подход позволяет включать прежние интерпретации и восприятие в контекст нового прочтения / понимания. В то же время в рецептивной эстетике участвует и читатель как полноправный участник герменевтического дискурса. В этом плане западногерманская рецептивная эстетика в свое время вытеснила французский структурализм, а американский деконструктивизм 80-х годов поставил под сомнение все ключевые понятия анализа текста – единство, согласованность, присутствие, слово, центр и т.д., полностью элиминировал онтологию, сделав ее избыточной по отношению к тексту как самодостаточному основанию. В США деконструктивизм стал одним из наиболее влиятельных направлений современной литературной критики, начиная с П. де Мана, настаивающего на субъективности любой интерпретации литературных произведений, или Дж. Миллера, выступающего против референциальности языка или реализма в принципе. Каждый читатель стал произвольно накидывать на произведение когнитивную сетку авторских осмыслений, делая классиков «героями» собственных романов. В том числе и в области собственных studies. Интересно, что американские штудии породили и обратное желание – оградить науку (европейскую) от безличного глобализма, сохранить основы национальных литературных традиций. При этом современный гуманитарий неявным образом возвращается к методологии формализма или раннего структурализма – школ, для которых было характерно представление об отдельном, изолированном, стабильном самодовлеющем тексте. «Текст был и константой, и началом, и концом исследования. Понятие “текст” было, по существу, априорным» 28 28 Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2001. – C. 72.
.
Когда речь идет о современной литературе и литературоведческом процессе в режиме «update», правомерность плюралистических подходов и принципов «остраненного анализа» ни у кого уже не вызывает возражения. Многие современные произведения сознательно провоцируют такую эклектичность понимания (ярчайший пример – творчество В. Пелевина). Текущие дискуссии построены на основании идеи ризомы и плюрализма (демократизма) мнений и оценок, стремящихся преодолеть «доминантный дискурс» (М. Фуко), утверждая на него право каждого «читателя». Сложнее дело обстоит с аналогичными попытками интерпретации классиков русской литературы масштаба Толстого или Достоевского. Безусловно, гений сам провоцирует плюрализм оценок и понимания. Недаром великая русская литература породила своего «близнеца» – великую литературную критику, ставшую важнейшей основой русской философии. Как точно заметил Поль Рикер, интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интерпретации он обнаруживается 29 29 См.: Рикер П. Конфликт интерпретаций (Очерки о герменевтике). – М., 2008.
. Но как бы мы ни были независимы в этом акте, невозможно в рамках институализации науки быть независимым от обоснования гуманитарной методологии, полностью отказаться от коммуникативно-семиотического подхода или «стремления обосновать особый эпистемологический статус гуманитарных наук, или наук о культуре» 30 30 Касавин Т.И . Текст. Дискурс. Контекст. – М., 2008. – С. 95.
. Поэтому выявлять «множественность смыслов» романов Достоевского возможно, лишь опираясь на целостность видения его жизни и творчества , преломляя их сквозь целостную методологию, хотя бы признанного на Западе и в США Бахтина, о котором прекрасно написал Т. Касавин : «Релевантность идей М.М. Бахтина для современной философии и гуманитаристики вообще проявляется прежде всего в том, какое значение он придавал творческой деятельности. Сформулированные им оригинальные категории – такие как вненаходимость, диалог, полифония, участное мышление (не-алиби в бытии), Другой, – обладают конкретным смыслом: они описывают жизненный мир человека, вовлеченного в процесс научного и литературного творчества. Едва ли не главной его задачей было показать живую, неокончательную фактуру этого процесса, его связь с жизнью самого творца» 31 31 Там же.
. Из Достоевского невозможно безоговорочно вынуть «монотему-Христа», оставить идею полифонии, воспеваемую как политкорректный слоган о «равенстве» всех голосов и идей; точно так же невозможно из XIX в. изъять тоску по трансцендентному, оставаясь лишь на почве аффективности или феноменальности. Аналогично из русской интеллектуальной мысли невозможно элиминировать идеологическую подоплеку всех ее базовых установок. С нашей точки зрения, любая методология должна учитывать специфику «объекта» как историко-культурной данности и наличие «субъекта», хотя бы в качестве творца текста, а также не забывать о диалогизме, позволяющем преодолеть централизацию и абсолютизацию литературно-языкового сознания или текста, свойственного замкнутой в себе «мифологической» традиции. В противном случае методология становится набором «научных протоколов» в духе Карла Поппера, разве что к ним не применяется процедура фальсификации. И тогда становится «правомерно» превращение Бахтина в первого русского постмодерниста. Примером такого «переложения» Бахтина является работа одного из ведущих литературоведов США Гэри Сола Морсона, разработавшего собственную теорию литературы, противоположную «Поэтике» Аристотеля, где Бахтин интерпретируется как пропагандист абсолютного равноправия всех точек зрения, включая авторскую 32 32 Rethinking Bakhtin: Еxtensions and challenges / Еd. by G.S. Morson and C. Emerson. – Evanston: Nothwestern University Press, 1989. – Р. 4.
. При этом почему-то умалчивается, что Бахтин прекрасно понимал, КТО в творчестве Достоевского «обеспечивает» вертикаль власти, на КАКОЙ онтологии держится вся полифония и плюрализм творчества Достоевского, в чем заключается «позиция третьего» – автора, пытающегося сделать свой текст вневременным достоянием культуры, в том числе и сегодняшней. Стоит напомнить, что у произведения есть и контекст, в том числе и социальный, и абсолютная свобода творческого акта автора, его создающего; без учета этих факторов мы получим лишь case studies замкнутых на себе и своей «национальной» терминологии интерпретаторов.
Читать дальше