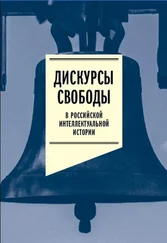1 ...8 9 10 12 13 14 ...29 Ключевой сферой интересов Скиннера исходно служит авторская интенция: его в большей степени интересуют те констелляции значений, которые возникают в момент создания или публикации текста и определяют риторическое намерение политического философа. Таким образом, история политической философии, по Скиннеру, предполагает известную степень свободы авторской воли. Автор способен с помощью концептов совершать большое количество действий, в частности менять парадигмы описания того или иного политического явления, сообразуясь с собственными намерениями в заданной ситуации [28]. Покок отчасти критикует и отчасти уточняет интенционалистскую линию Скиннера: в публикуемой ниже обзорной статье о состоянии метода в политической философии он ставит вопрос о принципиальной возможности анализировать «намерения» автора вне языковой среды. В каком смысле историк может изучать намерение автора до того акта, которым это намерение выражается в речи, и вне его? Отвечая на данный вопрос, Покок говорит об ограничении возможности авторского самопроявления, поскольку сами интенции в известном смысле уже заложены в языке, – язык предоставляет автору определенный репертуар политических идиом для описания политического опыта. Акцент в методологии смещается на язык или, правильнее сказать, на языки, связывающие автора, сообщение и читателя сетью общих значений. Однако богатство и многообразие доступных авторам языков [29], а также возможность языковых инноваций открывают автору, хорошо владеющему словом, существенную свободу речевого действия.
Соотношение между индивидуальными актами речи (parole), заданными и каждый раз меняющими структуру разделяемого сообществом языка (langue), становится центральной темой методологической рефлексии Покока [Pocock 1987 / 2009]. История дискурсов еще больше усложняется и обогащается за счет того, что исходная ситуация, в которой высказывается и совершает свою работу автор, существенно отличается от непредсказуемой цепочки последующих прочтений и интерпретаций текстов читателями, часто совсем незнакомыми с оригинальным контекстом высказывания. Классические тексты в силу своего авторитета, по определению, оказываются в открытой ситуации многократных реинтерпретаций, историю которых тоже можно продуктивно изучать. В целом базовой задачей историка дискурса становятся анализ и освоение основных идиом или языков, доступных в определенный исторический период максимально широкому кругу авторов. Изучение конкретного автора и текста основывается на таком предварительном знакомстве, которое позволяет указать не только на используемые автором языки, но и на возможные языковые инновации, совершенные им в рамках сложившегося узуса. В этой фазе фокус внимания смещается с репертуара общего языка к инновационному потенциалу индивидуальной авторской речи (высказывания).
Как мы уже говорили, утверждение Пококом и Скиннером относительной автономии политических дебатов, рассматриваемых как языковая игра, и свободы их участников по отношению к социальным отношениям господства и подчинения имплицитно полемично к постмарксистской редукции социального к экономическим и властным отношениям [30]. Деконструкция и дегуманизация классических оснований культуры и общества в рецепции идей Фридриха Ницше, Витгенштейна, Фуко, Жака Деррида и Хейдена Уайта, стимулировавших критическое переосмысление методологии и общественной роли социальных и гуманитарных наук, во многом определили развитие этих наук во второй половине ХХ века. Со своей стороны, Покок и Скиннер критически дистанцируются от наивной нормативности истории идей предшествующего периода и одновременно с помощью новой историографической методологии выстраивают проект, исследующий и отчасти легитимирующий «гуманистическую» либерально-консервативную традицию. Программа Покока и Скиннера, по нашему мнению, служит современной альтернативой основным исследовательским стратегиям «методологии подозрения» – деконструкции эпистемологического статуса знаний в общественных науках и дегуманизации как способу эвристического или критического описания общественных явлений. В обоих случаях историки, филологи, социологи и философы производят идеологические действия своими исследованиями и публикациями. Вопрос не в том, можно ли избежать этого воздействия, а в том, какое намерение передают академические высказывания. Нам представляется, что намерение гуманизации в целом лучше намерения дегуманизации, хотя оба подхода могут быть полезны и востребованы в разные исторические периоды.
Читать дальше
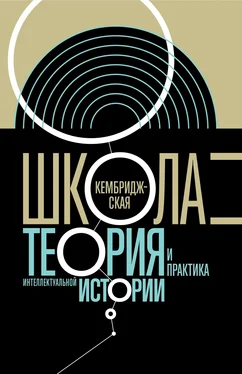




![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/430176/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika-thumb.webp)