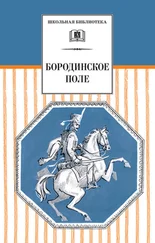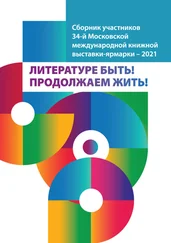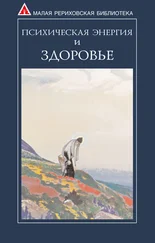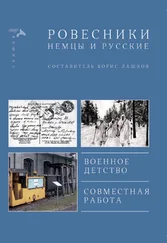Таким образом, в традиционных православных культурах восточной и юго-восточной Европы сосуществовали два этических ориентира, применявшихся к области экономики и права и содержащих определенный количественный аспект: с одной стороны, этика замкнутого хозяйства, пропорциональности, точности, с другой – логика благодати, милосердного отступления от правил и неточности [88] Здесь мы оставляем без должного внимания то обстоятельство, что обе эти разновидности этики впоследствии победит третья: логика прибыли, роста, то есть капитализма (которая осуждалась уже у Аристотеля; Pol. 1257a). Отношение к ней в рамках социалистической государственной экономики также остается за рамками настоящей статьи.
.
В основу настоящего текста положен тезис о том, что в своих имплицитных оценках лагерной действительности Шухов опирается на эти две разновидности этики и что в переплетении таких противостоящих друг другу позиций кроется ключ к пониманию рассказа (и его гибридного характера) – причем ключ более адекватный, чем пафос какой-либо духовности или политические ярлыки.
При помощи рычага, которым служит нам история экономической этики, из-под глыбы моралиста Солженицына, который впоследствии все более открыто и резко стал возносить свой указующий перст, можно извлечь на свет героя его раннего – сдержанного в плане авторских комментариев – произведения «Один день Ивана Денисовича». Несмотря на усиливающийся с годами морализм Солженицына, мы склонны принимать всерьез «экономизм» его героя и следовать за Благовым, призыв которого, сформулированный в 1963 году, долгое время оставался без должного внимания: «Оставим пока в стороне мораль (ее не было ни в ГУЛАГе, ни у Сталина) и взглянем на вопрос с чисто экономической точки зрения, для которой, как известно, морали не существует (как принято считать)» [89] Благов Д. А. Солженицын и духовная миссия писателя // Солженицын А. Собрание сочинений в 6 т. Франкфурт/М.: Посев, 1969–1970. Т. 6. С. 337. Этот взятый довольно рано методологический след перекликается с более поздней парадигмой литературоведения, а именно с новым историческим критицизмом (ср., Woodmansee M., Osteen, M. (Еds.) The New Economic Criticism: Studies at the Intersection of Literature and Economics. London et al.: Routledge, 1999).
.
Сужение повествовательной перспективы
Господствовавший в сталинскую эпоху политический запрет говорить о ГУЛАГе распространялся в том числе и на его экономическое измерение; в ранние годы оттепели о лагерях еще не писали. Публикация рассказа Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» в 11-м номере «Нового мира» за 1962 год решающим образом изменила ситуацию. Примечательно, что этот ключевой для преодоления политического умолчания текст подходит к тематике ГУЛАГа не с политической точки зрения [90] Ср. соображение С. Муди: «В „Одном дне“ нет никаких эксплицитных обобщений. В нем нет политически мотивированных персонажей, и Солженицын воздерживается от каких-либо открытых политических высказываний по такому острому вопросу, как само существование лагерей» ( Moody C. Solzhenitsyn. Р. 31).
, а через имплицитно экономическую призму взгляда простого деревенского человека, без вины попавшего в лагерь. О многом, что происходит в лагере, герой рассказа только догадывается по вторичным признакам («И, должно…», с. 30).
Сужение авторской перспективы до ограниченного взгляда одного малообразованного [91] Как верно подметил Р. Плетнев, повествование ведется «не от имени, а через мировосприятие Ивана Денисовича Шухова» ( Плетнев Р. А. И. Солженицын. Париж: YMCA-Press, 1973. C. 12).
зэка было подмечено еще А. Твардовским в его предисловии к публикации в «Новом мире»: «Содержание „Одного дня“, естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести» [92] Твардовский А. Вместо предисловия // Новый мир. 1962. № 11. C. 8.
. Позднее исследователи описывали данный прием как «самоограничение» [93] Fojtíková E. Realismus Solženicynovy novely. S. 34 (курсив автора. – Д. У. ).
и «самодисциплинирование» [94] Moody C. Solzhenitsyn. P. 35.
автора. Прибегая к терминам риторики, французский писатель Пьер Декс усматривал в отсутствии обобщающих авторских комментариев и оценок, столь нетипичном для более позднего Солженицына, «литоту перед лицом фактов» [95] Daix P. Ce que je sais de Soljénitsyne. P. 23.
. К этим наблюдениям стоит добавить еще один аспект, который исследователи чаще всего упускали из виду, а именно ономастику имени и фамилии Ивана Шухова – типичного репрезентанта русских «Иванов» [96] Сам Солженицын в комментарии к «Архипелагу ГУЛАГу» говорит о «наших Иванах» ( Солженицын А. Собрание сочинений. Т. 7. С. 479; ср. также Шнеерсон M. Александр Солженицын. С. 112–113). По поводу этимологии фамилии Плетнев упоминает существительные («Вероятно, Шухов от шух, шуга – мелкий лед, сало»; Плетнев Р. А. И. Солженицын. С. 12. Примеч. 9), забывая о глаголах «шухать» и «шугать».
и «зашуганных», «запуганных» [97] См. словарь Владимира Даля ( Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 2000. Т. 4. С. 648, 650), который у Солженицына, как известно, всегда был под рукой.
рядовых советских граждан.
Читать дальше