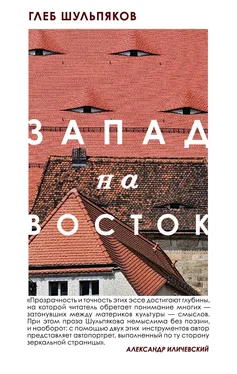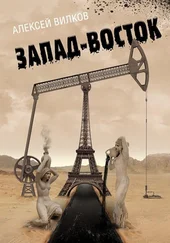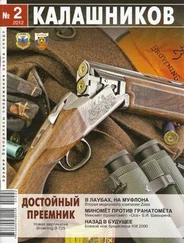– залатать протекающую крышу (срочно!).
И соорудить на поле буддийскую ступу.
Чтобы залатать крышу, надо найти непьющего мужика, потому что у пьющего «нет времени» плюс «страхи» – на крышу он не полезет, побоится упасть (притом что еще вчера этот человек сутки провалялся в канаве при ночных заморозках). И вот большая удача: спустя неделю разъездов непьющий найден. Это Фока, он же Володя – мужик лет пятидесяти, живущий за Льнозаводом.
– Ендова! – радостно рычит Фока, озирая крышу. – Ендова у тебя текуть, понял?
«Какие ендова?»
Фока складывает «ендова» из газеты и объясняет, как они устроены и что для их перекрытия надо перестилать весь скат. Я слежу за его большими узловатыми пальцами, настоящими клешнями – это руки человека, который умеет держать инструмент.
Когда я приезжаю через неделю, Фока с парнишкой все перекрыли. Мы рассчитываемся. Складывая купюры в кошелек, Фока говорит, что собрался жениться и немного нервничает.
– Молодая, из города. Надо купить в машину музыку…
Я желаю ему удачи.
Осенью я сажаю за домом сосенку. Ендова и сосенка – на этом моя маниловщина кончается. Больше ничего предпринимать не буду, ну их. Так на человека действует великая инерция деревенской жизни. Сила, накопленная веками, которая противится любому начинанию, если это начинание не имеет прямого отношения к насущному, то есть к теплу и пище.
Однако баня просто необходима. К соседу не набегаешься, неловко – а поставить новый сруб дорого. Есть еще вариант: можно взять старую, одна такая, заброшенная, есть в соседней деревне, и вот мы – я и Лёха – едем туда. На вид баня очень страшная, она вся в саже (топили по-черному), кривая, со съехавшей набекрень крышей и дырами окон. Но Лёха невозмутим. Если поменять пару венцов, говорит он, и поставить новую печку, будет нормально.
– А чья это баня-то?
– Шлёпина.
Пауза.
– Угорел по пьяни.
На кладбище темно, над головой шумят березы.
Вытянув руку с трубкой, иду, как сапер, вдоль оград.
Ничего, ноль. Снова пусто.
Делаю шаг между травяных холмиков, огибаю одну могилу, вторую. В трубке слышно потрескивание, какие-то потусторонние шорохи. Кажется, сигнал между заброшенным деревенским погостом и столицей вот-вот наладится.
Так и есть.
«Алло!» – наконец раздается на том конце.
«Ал-ло!»
Через пятки, упертые в натопленную лежанку, тепло растекается по телу. Мухи проснулись, жужжат – значит, изба натоплена как надо, можно читать хоть до вечера. И я читаю. Это «Философия общего дела» Николая Федорова.
«…призываются все люди к познанию себя сынами, внуками, потомками предков. И такое познание есть история, не знающая людей недостойных памяти…»
«…истинно мировая скорбь есть сокрушение о недостатке любви к отцам и об излишке любви к себе самим; это скорбь о падении мира, об удалении сына от отца, следствия от причины…»
«…единство без слияния, различие без розни есть точное определение “сознания” и “жизни”…»
«…если религия есть культ предков, или совокупная молитва всех живущих о всех умерших, то в настоящее время нет религии, ибо при церквах уже нет кладбищ, а на самих кладбищах царствует мерзость запустения…»
«…для кладбищ, как и для музеев, недостаточно быть только хранилищем, местом хранения…»
«…запустение кладбищ есть естественное следствие упадка родства и превращение его в гражданство… кто же должен заботиться о памятниках, кто должен возвратить сердца сынов отцам? Кто должен восстановить смысл памятников?»
«…для спасения кладбищ нужен переворот радикальный, нужно центр тяжести общества перенести на кладбище…»
Речь в книге густая, неразрывная – мысль рассеяна по каждой капсуле, вытащить цитату практически невозможно. Да и вне речи фраза выглядит нелепо, вздорно (что значит «перенести жизнь на кладбище»? как вы себе это представляете?). Между тем речь в «Философии…» не оставляет сомнения в абсолютной, неоспоримой истинности. Завораживает именно это убеждение Федорова в собственной правоте. Не умозрительной, логическо, – а внутренней, как будто это вопрос его жизни и смерти, буквально.
Но почему этот вопрос не дает мне покоя тоже?
«Почему, – спрашиваю я себя, – когда стали переиздавать русскую философию, Николай Федоров прошел мимо меня? Почему я не заметил его?»
Я вспоминаю конец восьмидесятых, девяностые: настоящий книжный бум. Толпы у лотков, очереди в магазинах. «Кого я читал тогда?» Это был Бердяев – конечно. На газетной бумаге, в мягких обложках, многотысячными тиражами, которых все равно не хватало. Я читал его как откровение.
Читать дальше