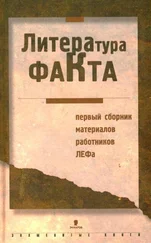Необходимо учитывать, что эти процессы в литературной культуре развивались в контексте интенсивных социальных и культурных изменений. Укажем, например, на повышение уровня грамотности, приобретающей значение средства социальной мобильности. В немалой степени это касалось женщин, что особенно важно для романа, бывшего в ходе различных движений за эмансипацию предпочтительным жанром читательниц и писательниц, более того – для многих образованных современниц «равенство полов» входило в широкий контекст эгалитарных требований, в том числе и «равенства жанров». Кроме того, для этого периода характерны интенсивное становление системы «массовой» журнальной и газетной печати, активизация производства дешевых, «рыночных» (в том числе «пиратских») изданий, массовая мода на чтение «профанной» беллетристики, повлиявшая, в свою очередь, на расширение круга деятельности библиотечных абонементов и т. д., что ознаменовалось позднее (в первой половине XIX в.) образованием относительно развитых и автономных национальных литературных систем и приобретением литературой и романом статуса универсальной культурной ценности 61 61 Данные по Германии свидетельствуют о росте числа ежегодно публикуемых романов с 10 в 1740 г. до 300–330 к началу 1800‐х гг. Примерно тот же порядковый размах и для статистики второй половины XVIII в. по другим европейским странам ( Ward A. Op. cit. Р. 167).
.
Так, существенное влияние на начинающуюся автономизацию культурного статуса литературы (в ее современном значении) оказали процессы становления национальной культуры и национального языка в Германии, имевшие ощутимый антиаристократический или, по крайней мере, антипридворный оттенок 62 62 Vogt E. Die gegenhöfische Strömung der deutschen Barokliteratur. Giessen, 1932.
. Одни из первых реформаторов немецкого языка были вместе с тем и первыми теоретиками словесности и литературы, издателями, авторами од, трагедий, поэм и т. п. (от М. Опица до И. Х. Готшеда). Их появление еще в первой половине XVII в. сопровождалось деятельностью различных «обществ немецкого языка», из которых ведущая роль принадлежит «Плодоносному обществу». Благодаря этому уже в XVIII в. было в значительной степени преодолено или как минимум подорвано господство пиетизма и светских интернациональных и рационалистически классицистских вкусов и принципов образования и воспитания, характерных прежде всего для придворных и аристократических кругов. О массовом чтении – прежде всего общеобразовательном, «культивирующем» – можно говорить уже начиная со второй половины XVIII в., поскольку именно в это время отмечается резкий рост городских читателей. Выходят различные журналы, начало которым положено «Немецким еженедельником» Хр. Томазиуса «для образованных лиц из всех сословий, включая женщин». И. Х. Готшед издает «Моральные еженедельники», «Разумные прорицательницы», печатавшие прозу и поэзию. Позднее появляются «литературные газеты», в которых сотрудничают и публикуются А. фон Галлер, Х. Ф. Геллерт, Ф. Г. Клопшток и др. Вместе с ними впервые возникает и литература для детского чтения (типа сборника назидательных историй), и, наконец, первый журнал для детей «Друг детей» Хр. Ф. Вейсе (1775 г.) и последовавшие за ним многообразные «детские еженедельники».
Как сами романисты, так и кодификаторы их творческой практики были вынуждены учитывать данные процессы, что заставляет их обращаться в поисках норм самоопределения к авторитетным достижениям естественных наук, философии, истории, теологии (таков, например, генезис понятий и принципов «реализма», «конвенции», «фикции» и т. п.). Ограничимся здесь лишь общими указаниями на некоторые феномены подобной адаптации. Роман, заступающий для секуляризирующихся групп место религиозного обоснования смысла деятельности в мире как «светское писание», постепенно и через многие опосредующие моменты усваивает – в различных, разумеется, национально-культурных формах – переосмысленные (в особенности – протестантизмом) христианские идеи личности как самоответственной инстанции и ее нравственного становления в рамках жизненного цикла, осмысленного и оцененного из «конечной» перспективы частного существования 63 63 Beaujean M. Der Trivialroman in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Bonn, 1969; Beaujean M. Das Lesepublikum der Goethezeit // Der Leser als Teil des literarischen Lebens. Bonn, 1971. S. 5–32.
. Во Франции аналогом этих процессов выступает влияние концепций и проповеднической деятельности янсенизма, адаптированное моралистическими жанрами и оказавшее через них воздействие на романистику А. Ф. Прево и др. (здесь, как и всегда, ситуация проповеди и обучения обострила моменты прагматической, коммуникативной структуры текста).
Читать дальше
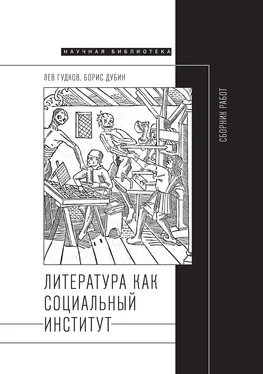
![Борис Дубин - Очерки по социологии культуры [сборник статей]](/books/34848/boris-dubin-ocherki-po-sociologii-kultury-sbornik-thumb.webp)