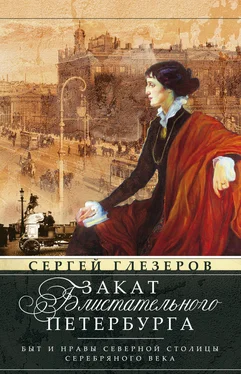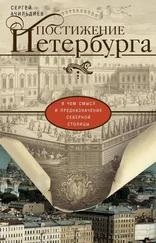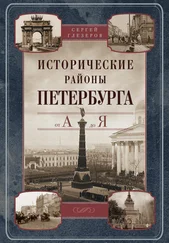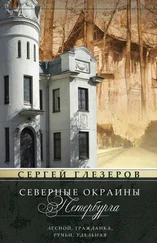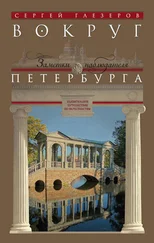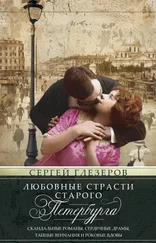Традиционный русский вопрос «Кто виноват?» постоянно витал на месте случившейся катастрофы. Гражданский инженер Максимов, наблюдавший за возведением дома на Разъезжей, возлагал вину на Залемана, который постоянно вмешивался в процесс строительства.
«Будучи юридически строителем дома, я фактически должен был постоянно чувствовать над собой власть хозяина, – сетовал Максимов. – Залеман все работы сдавал сдельно, по сильно выторгованной цене. Это страшно отражалось на качестве работ». Между тем сам Залеман категорически отрицал свою вину: он заявлял, что для постройки «употреблялись материалы, купленные у первоклассных фирм, и на достоинство их обращалось должное внимание».
В обществе звучали мнения, что произошедшая трагедия – вовсе не случайность, а просто очередной эпизод в долгой строительной деятельности Залемана. «Архитектурные катастрофы возможны, но когда один и тот же домовладелец годами строит дом за домом, и непременно с обвалом, то какая же это случайность? – вопрошал обозреватель «Петербургской газеты». – Это – систематическая строительная спекуляция, соединенная с общественной опасностью. Возможность безнаказанно заниматься такой спекуляцией ясно свидетельствует, что в городских порядках не все в порядке»…
Архитекторы категорически возражали против своей вины в строительных катастрофах, год от года потрясавших Петербург. Как заявил председатель столичного общества архитекторов Эрнест Жибер, вся вина – на злоупотреблениях рабочих и десятников, и обвалы домов прекратятся только тогда, когда закон точно определит ответственность, которую несут в подобных случаях не только архитекторы, но и подрядчики, десятники и рабочие, иначе последние делают что угодно за спинами архитекторов, а потом пытаются переложить всю вину на них.
А еще говорили, что во всем виноваты нерадивые рабочие, что в их среду все больше и больше проникает «дух хулиганства», поведение их становится несносным, дисциплина падает, на стройках часто можно увидеть пьяных, которые совсем даже не прячутся от глаз технического надзора. Говорили, что причина всех бед – русский «авось».
Искали и другие причины постигших Петербург строительных катастроф. Среди них называли не только плохую постройку домов, но и то, что они строятся на так называемых лежнях, то есть деревянных бревнах, которые кладут прямо на почвенные воды, а на этих лежнях возводится фундамент. Лежни достаточно быстро загнивают, а потому не выдерживают тяжести дома, и он оседает, расползается и накреняется.
«Мне объяснил один архитектор, что некоторые постройки на петербургской зыбкой почве потому только держатся, что соседние здания поддерживают их в состоянии равновесия, – писал обозреватель одной из столичных газет. – В буквальном смысле слова все основано на „добрососедских“ отношениях».
Однако, несмотря на общественное беспокойство, строительная лихорадка продолжалась, а вместе с ней не переставали случаться и катастрофы. Летом 1912 года в столице много говорили о том, что рухнул один из корпусов шестиэтажного дома купца-банщика Торкачева.
Как выяснилось, дело было, как и в прежних случаях, в «экономичности» строительства – использовались старый, уже бывший в употреблении, кирпич и дешевый бетон. Кроме того, как оказалось, первые этажи были сложены всего только в толщину двух с половиной кирпичей, а вместо 9-дюймовых балок укладывались перекрытия толщиной в 6,5 дюйма.
Главным виновником катастрофы городские власти были склонны считать самого хозяина злополучного дома банщика Торкачева. Дело в том, что это был классический пример, когда домовладелец, выступавший еще «по совместительству» и строительным подрядчиком, считал себя умнее архитектора и тайно от него допускал непозволительные отступления от плана работ. Однако Торкачев не падал духом. «Чего унывать? Не унывай! – во всеуслышание заявил он архитектору Владимиру Николя, отвечавшему за постройку. – Ты понесешь уголовную ответственность, а я гражданскую. Как-нибудь вывернемся!» И ведь вывернулся: когда через несколько дней его все-таки арестовали, то он сразу же вышел на свободу под залог в пятьдесят тысяч рублей…
Летом 1913 года для борьбы со злоупотреблениями при строительстве петербургских домов ввели специальные контрольные бланки, в них городские архитекторы должны были вносить все свои замечания по ходу постройки здания. Однако эту меру в обществе встретили с плохо скрываемой иронией.
Читать дальше