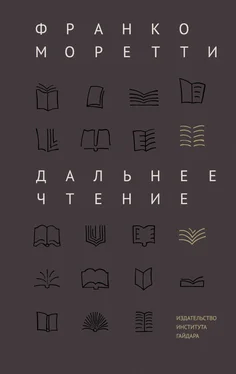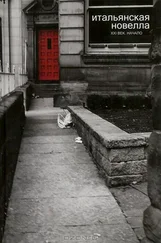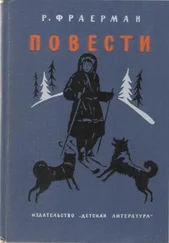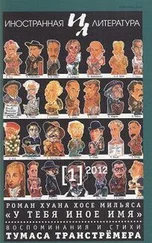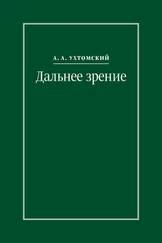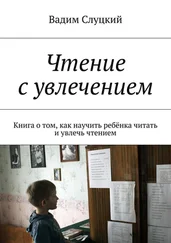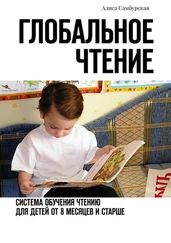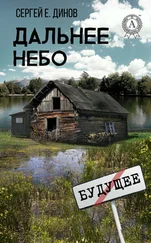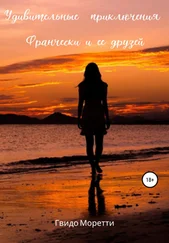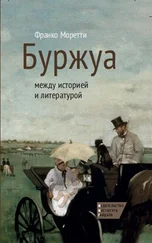3. Барочная трагедия, Европа раскрывается
Ничто не выражает идею полицентричной Европы более точно, чем история развития великой барочной трагедии. В середине XVI в. все еще можно встретить фигуры подобные Джорджу Бьюкенену: шотландец, работающий в Лондоне и Париже, пишет свои трагедии по-латыни на широко известные библейские сюжеты. Это превосходный пример длительного единства европейской драмы во времени и пространстве. Для высокой трагедии моделью практически всегда был Сенека, а средневековые традиции, берущие начало в народной религии, как правило, были везде похожими. Общим для всей Западной Европы был и трагический герой (абсолютный монарх), и «запоминающаяся сцена» (королевский двор), на которой должно было произойти падение героя.
Однако именно это пространство и этот герой становятся первыми точками разрыва с классическим наследием. Новый монарх – ab-solutus, независимый, свободный от этнико-политических уз феодальной традиции – достиг того, что Гегель назвал бы «самоопределением»: ему доступен свободный выбор, а соответственно, он может позиционировать себя как нового вершителя истории. Как в Trauerspiel, так и в «Горбодуке» и «Лире» все начинается с решения героя: то же происходит у Расина или у Кальдерона в пьесе «Жизнь есть сон». Новый принц освободил себя, пишет Кьеркегор «от субстанциональных зависимостей, таких как семья, положение или родословная [которые составляли] истинный Рок в греческой трагедии» [22] Søren Kierkegaard, Either/Or, Princeton 1971, vol. I, p. 141.
.
И все же этот король, освободивший себя от Рока, стал Роком самому себе: возрастающие абсолютизм, энергичность и свобода действий делают его похожим на тирана и приводят целое королевство к катастрофе. Монархическая воля, порывающая с прошлым, становится дорогой во тьму: Гамлет прокалывает ковер, Сигизмунд правит в своем «сне». Это взгляд новой литературы в будущее: злополучный и неизбежный путь. Первая фраза Федры «N’allons point plus avant [23] Дословно: «Не будем больше продолжать». – Примеч. пер.
» – это бессмысленное желание, так как трагедия уже пустила историю под откос («Бесчисленные „завтра, „завтра, „завтра» [24] «Макбет», перевод М. Лозинского. – Примеч. пер.
) – и поворота назад не предполагается.
Если трагический герой не может себя сдержать, то пространство, в котором он обитает, наделяется невероятной силой притяжения. «Федра» открывается строками: «Решенье принято, мой добрый Терамен: // Покинуть должен я столь милый мне Трезен», но, конечно, никому не позволено покидать Трезен. «В „Ифигении“ целый народ томится в плену трагедии, потому что на море нет ветра» [25] Барт Р. Из книги «О Расине» //Барт Р. Избранные работы. М., 1989, с. 146.
, – пишет Барт в книге «О Расине». В «Гамлете» персонажи разбросаны между Виттенбергом и Парижем, Норвегией и Польшей (и потусторонним миром). Самого Гамлета, который хотел покинуть Норвегию, отправляют в Англию, пираты похищают его по пути. Однако все эти попытки напрасны. Всем персонажам – Фортинбрасу и Горацио, Гамлету и Лаэрту (и Призраку) – не избежать встречи в Эльсиноре на великом жертвоприношении. Лошадь Розауры становится неуправляемой и «поэтому» ведет героиню прямо к башне Сигизмунда. В пьесе «Жизнь есть сон» тюрьма и двор являются все же единственными реальными пространствами. Более того, это одно и то же пространство, если вспомнить «Гамлета» («Дания – тюрьма») или гарем в «Баязете» Расина.
Вновь Барт: «В конечном счете трагедию образует трагедийное пространство <���…> Кажется, вся трагедия заключена в вульгарной фразе на двоих места нет. Трагедийный конфликт – это кризис пространства» [26] Барт Р. Из книги «О Расине» //Барт Р. Избранные работы. М., 1989, с. 169–170.
. Возможно, кризис пространства возникает из-за слишком успешной реорганизации этого пространства, принявшего притязания абсолютизма слишком серьезно. Вальтер Беньямин писал: «Теория суверенитета <���…> подталкивает к тому, чтобы придать образу суверена тиранические черты» [27] Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002, с. 56. Walter Benjamin, The Origins of the German Baroque Drama, London 1977 (1928), p. 69.
. Это в той же степени можно отнести и ко двору. Усиление национального государства (при его неопределенных границах и недостатке внутренней целостности) прежде всего требовало бесспорного центра притяжения: маленького, сильного, неразделимого, в котором действительно не было бы «места для двоих». Это придворное пространство, но и – по тем же причинам – это пространство трагедии.
Читать дальше