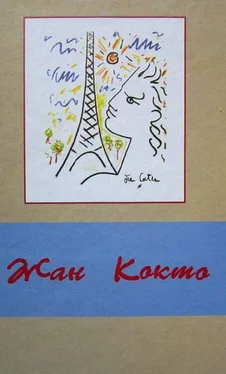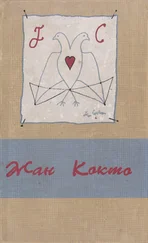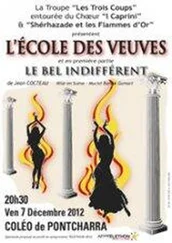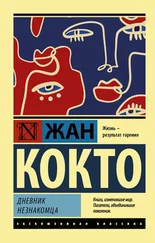Можно себе представить, до какой степени подобные зрелища бередили жестокую, алчущую приключений детскую душу. В 1904 году мы бродили вокруг этой ограды и пытались залезть на нее, встав на седло велосипеда.
Ну да ладно, хватит болтать. Сентиментальность морочит душу. Пересказывать подобные вещи все равно, что пересказывать сны. Если подумать, такие сокровища есть у каждого, и никто их другим не навязывает.
Ну вот, расхныкался, а все потому, потому, что память, не зная, куда ей деться, вынуждена была ретироваться. Но я уже прикусил язык и больше к этому не вернусь.
Я не веселый и не грустный. Но могу быть всецело одним или всецело другим, без меры. В беседе, если происходит перетекание душ, я могу иногда забыть о печали, в которой пребывал, о боли, которую испытывал, могу совсем забыть себя — настолько слова опьяняют меня и влекут за собой мысли. Так мысли приходят гораздо легче, чем в одиночестве. Случается, написать статью для меня — пытка, и тогда я ее проговариваю без усилий. Это опьянение словом предполагает, что я все же обладаю легкостью, которой у меня нет. Потому что, едва я начинаю себя контролировать, как легкость эта оборачивается каторжным трудом, который я ощущаю как крутой, нескончаемый подъем. К этому добавляется суеверный страх перед деланьем, я всегда боюсь плохо начать. Меня охватывает лень, похожая на то, что психиатры называют «страхом действия». Белый лист, чернила, перо приводят меня в ужас. Я знаю, они сговорились не давать мне писать. Если мне удается преодолеть их сопротивление, механизм разогревается, работа меня порабощает, мозг приходит в действие. Важно только, чтобы я не вмешивался в сам процесс, лучше, если я вообще буду дремать. Малейшее участие сознания — и механизм стал. А чтобы запустить его вновь, приходится ждать, пока он сам соблаговолит, и нечего даже думать подтолкнуть его какой-нибудь хитростью. Потому-то я никогда не пользуюсь столами: они сбивают меня своим приглашающим видом. Пишу я, когда придется, и на коленях. То же с рисованием. Я, конечно, могу подделать линию, но это все равно будет не она — настоящая линия выходит у меня, когда ей вздумается.
Сны обычно так нешуточно и достоверно шаржируют мои поступки, что из них можно было бы извлекать уроки. Но увы: они карикатура самого устройства моей души, что меня вконец обескураживает и совсем не помогает бороться с собой. Никто лучше меня не знает собственных слабостей, и когда мне случается читать какую-нибудь статью, направленную против моей особы, я думаю, что сам нанес бы себе удар точнее и вонзил бы клинок по самую рукоять, так что потом мне бы ничего другого не оставалось, кроме как подогнуть ноги, высунуть язык и встать на колени посреди арены.
Не следует путать интеллект, ловко вводящий своего владельца в заблуждение, и другой орган, запрятанный неизвестно где, который, хоть его и не просят, оповещает нас о наших пределах. Преодолеть их никому не дано. Усилие было бы чересчур заметно. Оно бы только подчеркнуло узость отмеренного нам пространства. Талант распознается по умению двигаться в этом пространстве. Наши достижения рождаются там же. Достижения исключительно морального порядка, потому что любое наше начинание застигает нас врасплох. Рассчитывать мы можем только на неподдельность. Малейший обман влечет за собой новый обман. Лучше уж откровенная неуклюжесть. Безликая публика ее освищет, но простит. Обман — явление замедленного действия. Публика отворачивается с помертвевшим взглядом женщины, которая любила и любить перестала.
Поэтому в школе я изо всех сил старался не тратить сил попусту. Я леплю тысячи ошибок, исправляю их как попало, ленюсь перечитать написанное и вылавливаю только суть. Если нужное сказано — остальное неважно. У меня выработался свой метод. Заключается он в следующем: быть быстрым и жестким, экономить слова, разрифмовывать прозу, долго прицеливаться, не заботясь о стиле, и непременно попадать в цель.
Перечитывая себя по прошествии времени, я краснею только за красивости. Они вредят нам, ибо отвлекают от нас. Публика их любит, дает себя ослепить и не обращает внимания на остальное. Я слышал, как Чарльз Чаплин сетовал, что не выбросил из своей «Золотой лихорадки» танец с булочками, от которого зрители приходили в неописуемый восторг. Он же видел в нем только пятно, отвлекающее внимание. Я также слышал, как он рассказывал (по поводу стилистической орнаментальности), что сняв фильм, он «трясет дерево». Оставлять надо только то, что само держится на ветках, — пояснял он.
Читать дальше