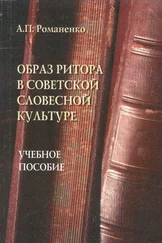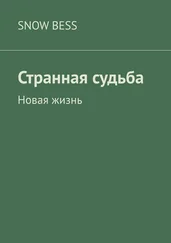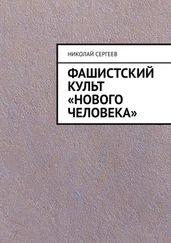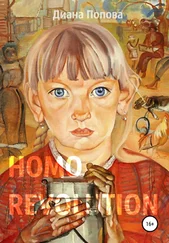Возник запрос на так называемую суровую правду. Можно задаться вопросом: почему правда должна быть только суровой? Почему правда не должна быть радостной, оптимистичной и призывной?.. Смысл нашей работы состоит в том, чтобы увидеть великую правду, правду о красоте советского человека, который борется за мир, социальный прогресс, коммунизм [267].
Изображение более глубоких аспектов военного опыта оставалось крайне проблематичным не только на протяжении 1950‐х годов, но и в 1960‐х, несмотря на значительные изменения, произошедшие в других сферах советской культуры. Именно это сочетание имманентных характеристик той или иной культурной формы и преобладавшей в период оттепели атмосферы позволяет лучше всего объяснить, почему данный дисбаланс в обращении с «неуместными», по определению Крыловой, темами успешно сохранялся и после смерти Сталина [268]. Однако, даже принимая в расчет эти ограничения, невозможно устранить тот факт, что художественных репрезентаций воздействия войны — физического, психологического и материального — по- прежнему было очень немного.
Художественное изображение израненного военного в хрущевский период как нельзя лучше демонстрирует примечательную устойчивость советских клише, утвердившихся для подхода к подобным темам. Кинематограф устремился вперед с появлявшимися все в большем количестве фильмов цветными изображениями солдат-инвалидов, тогда как на страницах главных изданий страны за редким исключением продолжался поток публикаций, подававших ранение как некий знак отличия настоящих героев, а не как нечто, оставляющее шрамы на телах отдельных людей, и определенно не как то, с чем этим людям и их семьям предстоит иметь дело после войны. Тем не менее творчество таких художников, как Коржев, показательно с точки зрения того, каким образом ужасающее наследие войны теперь начинало осваиваться в изобразительном искусстве, причем подобные образы находили не только собственное место в печати, но и, похоже, поддержку широкой публики. Однако, как демонстрируют примеры работ Неизвестного и Шаховского, несмотря на то что некоторые художники теперь вдохновлялись созданием подобных произведений и получали публичные площадки для их демонстрации, существовал некий предел того, что считалось приемлемым, когда речь шла об изображении увечий. Этот предел не предполагал мрачного изображения судеб, исковерканных войной.
«Опаленные огнем войны»: израненный мужчина двадцать лет спустя
Существенный сдвиг в художественном изображении раненого или получившего инвалидность солдата становится заметен в середине 1960‐х годов, в момент двадцатилетней годовщины Победы. Как отмечалось в предыдущей главе, это явление не было уникальным — оно представляло собой один из аспектов гораздо более масштабного визуального переосмысления военного опыта, которое наконец стало предполагать последовательное обращение к таким темам, как тяжелая утрата, травма и смерть. Не могло быть совпадением то обстоятельство, что подобные произведения появились в период, когда День Победы был восстановлен в качестве государственного праздника (1965), что ознаменовало возникновение культа войны в Советском Союзе. Кроме того, в это же время в СССР имела место первая волна скоординированного строительства военных мемориалов — обе указанные тенденции легитимно вводили память о военном опыте в публичную сферу.
Нина Тумаркин в своем обзоре развития культа Великой Отечественной войны опрометчиво указывает на политическое преимущество его воскрешения для Брежнева и его режима:
«Идеализированный военный опыт был вместилищем национального страдания, из которого постоянно черпались мобилизация лояльности режиму [и] поддержание порядка, … [поскольку] начиная с 1965 года Великая Отечественная война продолжала превращаться из национальной травмы монументальных масштабов в священный и неприкосновенный набор героических подвигов» [269]. Полли Джоунс в своей работе о литературе и травме сталинского прошлого приводит подробнейшие примеры того, как авторы, пытавшиеся публиковать произведения, темой которых становились душераздирающие реалии террора или катастрофа первых дней войны, сталкивались с запретом со стороны властей в этот период, когда была характерна возобновившаяся приверженность героическому нарративу советского — собственно, сталинского — прошлого[270]. Однако невозможно отрицать, что одновременно происходила глубокая трансформация в визуальной репрезентации войны, которая, как представляется, контрастировала с лицемерными мотивами режима, описанными Тумаркин, и вытеснением травматической памяти, которое Джоунс обнаруживает в литературе. В таком случае вновь возникает впечатление, что визуальная культура шла собственным путем в обращении к темам войны и ее ужасного наследия. Эта траектория, вероятно, ставит под сомнение некоторые предположения о природе ранней брежневской эпохи, в рамках которой, как правило, усматривается «[постепенное превращение] нервозности и раздражительности военного культа хрущевского периода… в неизменную помпезность на уровне государственного ритуала»[271].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу