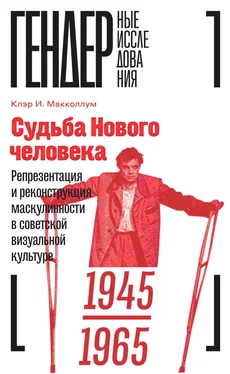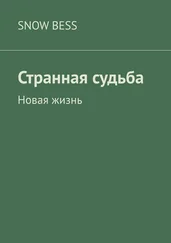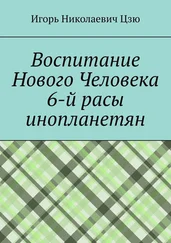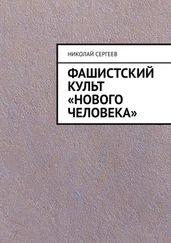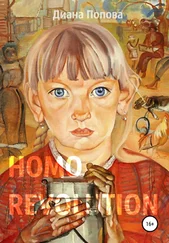Бельведерский торс считается изображением умершего Геракла: «его и теперь прекрасное тело очищено от признаков жестокой борьбы, в которой он реализовал свою героическую натуру» [256], — точно так же у Неизвестного поединок с инвалидностью превращает мужчину в фигуру масштаба Геракла. Влиятельный историк искусства Джон Бергер в своем очерке 1969 года, посвященном творчеству Неизвестного, назвал «Инвалида» неудачным произведением, хотя в то же время Бергер признавал замысел скульптора — представить «этого изуродованного мужчину как Прометея, потому что он жив; его увечья дополняют этот прометеевский характер, позволяя ему продемонстрировать масштаб способности человека [кто-то, возможно, уточнит — советского человека] к адаптации и силу воли к жизни» [257]. Аналогичным образом Альберт Леонг в своей более поздней биографии скульптора делает вывод, что «его герои обладают могучей мужественностью… Как можно заметить по работам цикла „Война это…“, даже изображенные на них безногие и пронзенные штыком люди остаются богатырями, демонстрирующими силу воли и мощь сопротивления перед лицом смерти и увечья» [258].
Цикл «Война это…» был показан публике в конце 1959 года и стал предметом дискуссии на общем собрании Московской секции Союза художников в декабре того же года — тональность этой дискуссии была примечательно одобрительной, несмотря на субъективную манеру и стиль Неизвестного. И хотя критики, например Сарра Валериус, выражали беспокойство по поводу «слишком пессимистичного» мироощущения его работ, они были вынуждены признать, что «изображенное Эрнстом в его цикле „Война это…“ …является талантливым воплощением психологической стороны человеческого страдания на войне»[259]. То обстоятельство, что работы Неизвестного не публиковались и даже не обсуждались в профессиональных художественных изданиях, учитывая их новаторскую тематику и в целом положительное восприятие критиками, вероятно, слегка озадачивает. Однако совершенно неудивительно, что работам Неизвестного не нашлось места в более популярных изданиях, принимая во внимание те тональность и манеру, с которыми он подходил к теме израненного войной тела, — они примечательным образом расходились с образами раненого, наводнявшими популярную печатную культуру [260].
Творчество Неизвестного в целом получило положительные отзывы, а вот отмеченные брутальным реализмом работы Дмитрия Шаховского, представленные на Четвертой выставке произведений молодых художников в Москве в 1958 году, были разгромлены критиками. Созданное Шаховским скульптурное изображение безногого мужчины, сидящего на тележке и держащегося за рычаги, с помощью которых он передвигается по улице, вызвало порицания за мрачный сюжет, в котором, согласно мнению критиков, не было ничего поучительного или вдохновляющего[261]. Молодежные выставки наподобие той, где была показана работа Шаховского, были новым явлением, появившимся в период оттепели. Как указывала Сьюзен Рейд, они представляли собой «авангард официальной художественной системы»: хотя в 1963 году такие мероприятия были (пусть и временно) отменены консервативными силами, реформаторы приветствовали их как благоприятную возможность для новшеств и активизации своих усилий [262]. Учитывая это, столь острая критика в адрес Шаховского, вероятно, оказывается еще более важным обстоятельством, однако, как утверждает Рейд, «даже убежденные реформаторы ставили знак равенства между „аутентичностью“ и „современностью“, с одной стороны, и принципиальным оптимизмом, с другой, какое бы „суровое“ выражение последний ни получал» [263]. В представленном молодым скульптором изображении инвалидности оптимизм отсутствовал как таковой.
В части реалистичности и психологических достоинств подход к изображению инвалидности у Неизвестного и Шаховского был ближе к тому, как эти проблематичные темы воплощались в кино того времени. Хотя специфика кинематографа периода оттепели не является ключевым предметом нашей работы и ей посвящено множество других исследований [264], разрыв между изобразительным искусством и кино в способах изображения тем инвалидности и психологического страдания (тот же самый разрыв, что существовал в первые послевоенные годы между изобразительным искусством и художественной литературой) вновь подчеркивает усложнившуюся и зачастую противоречивую природу как советского культурного процесса в целом, так и способов изображения наследия войны в частности. Это расхождение исключительно наглядно продемонстрирует самый общий взгляд на два известнейших фильма эпохи оттепели: «Летят журавли» Михаила Калатозова (1957) и «Баллада о солдате» Григория Чухрая (1959). В этих лентах раненый солдат изображен как сложная личность, пытающаяся преодолеть разнообразные психологические проблемы и смиряющаяся с ранением, которое куда более серьезно, чем перевязанные конечности и окровавленные головы, привычные для изобразительного искусства периода оттепели. В «Журавлях» Калатозова раненый солдат наделяется несколькими функциями в развитии сюжета. Из-за него погибает Борис, главный герой фильма, которого убивает снайпер во время вылазки в разведку, когда тот пытается спасти своего раненого товарища; он же рассказывает эту историю Веронике, возлюбленной Бориса, самоотверженно работающей в госпитале в Сибири, где она вместе с его отцом ухаживает за раненными под Сталинградом. Однако, в отличие от того, что обнаруживается в других типах визуальной культуры, изображение раненого солдата в этом фильме представляет собой нечто гораздо большее, чем простой повествовательный прием. В образах своих персонажей — от Воробьева, который, несмотря на свои ранения, пытается сохранить мужскую гордость, отказываясь просить судно, до Захарова, чья физическая боль оказывается чем-то незначительным, когда он узнает, что его возлюбленная вышла замуж за другого, и множества раненых, которых встречают их семьи в заключительной сцене возвращения домой, — Калатозов вновь и вновь изображает ранение и его последствия для тела и души мужчины как сложный феномен, одновременно лишающий мужского достоинства и героический, угрожающий жизни и жизнеутверждающий, признак храбрости и источник сомнений в себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу