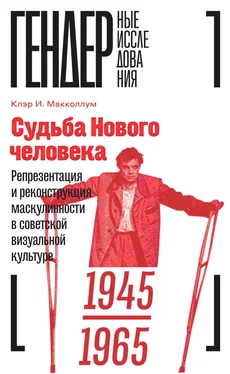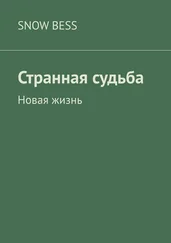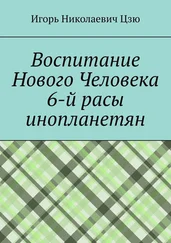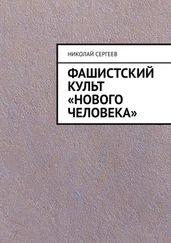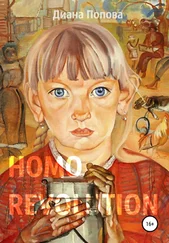Несмотря на маргинальное положение инвалидов войны (или, возможно, даже благодаря этому обстоятельству), официальная риторика с самого начала послевоенного периода постоянно подчеркивала, какие меры государство предпринимает, чтобы вернуть этих людей в ряды советского общества, и вновь в качестве чудодейственного лекарства от всех психологических сложностей рассматривалось участие в трудовой деятельности. В отчете министра социального обеспечения в мае 1946 года утверждалось, что в первый мирный год, помимо многих прочих достижений, правительство выдало более 30 млн рублей пенсий инвалидам войны; что в центрах профессиональной переподготовки находились более 50 тысяч человек, которые больше не могли работать по своим прежним специальностям; что на протезы было потрачено более 90 млн рублей [212]. Жертвы, принесенные солдатами-инвалидами, также были удостоены особого упоминания в ходе празднований Первого мая и годовщины Октябрьской революции: в приуроченных к ним лозунгах в 1946 году выражалась надежда на «трудоустройство и реабилитацию инвалидов Отечественной войны» [213]. И хотя в прессе приветствовалось подобное отношение к инвалидам как признак прогрессивной, инклюзивной и технологически передовой природы советского общества, в действительности, как показано в работах Беате Физелер, ситуация была куда хуже. Пенсии и компенсации были малы (причем, похоже, это было намеренным решением, заставляющим ветеранов вернуться к работе), большинство инвалидов войны не получали никакой переподготовки, так что в поиске работы им приходилось рассчитывать только на себя, а работодатели зачастую открыто признавали, что предпочитают нанимать бывших заключенных, а не «калек» [214]. Даже для многих из тех, кому посчастливилось получить от государства протезы, это не означало возможности полноценного участия в труде — этот момент подчеркивается в следующем письме редактору «Правды» от двух инвалидов войны из Костромской области:
«Мы потеряли ноги в боях за Отечество. Несмотря на инвалидность, мы горим желанием работать на благо советского народа. Однако осуществить наше желание нам мешает отсутствие качественных искусственных ног… Мы получили протезы… но они причиняют ссадины и боль. Они оказались бесполезны» [215].
Таким образом, в первые послевоенные годы относительно инвалидов войны и их места в советском обществе возникли две параллельные установки. В рамках одной из них подчеркивалась великодушная природа Советского государства, оказывавшего помощь этим людям, а другая расценивала инвалидность как нечто подлежащее преодолению через возвращение к труду и благодаря уникальной физической и моральной силе советского человека. Всего за несколько лет израненное тело превратилось из абсолютного признака героизма и патриотического долга в препятствие, которое требовалось преодолеть, чтобы восстановить мужскую состоятельность. В связи с этим послевоенная печать была наполнена заголовками, пропагандирующими выдающиеся достижения инвалидов войны: безрукие перевыполняли производственные задания, ампутанты управляли тракторами, а ветераны использовали время реабилитации для овладения новыми навыками. К этим людям не требовалось проявлять жалость из‐за того, что они получили увечья, — их исключительным достижениям, храбрости и решимости нужно было подражать [216].
Но сколь бы часто эти конкурирующие нарративы ни проявлялись в печати, ни умозрительные стереотипы о поддержке инвалидов, ни сверхчеловеческое преодоление ими своих недугов не оказывали влияния на художественные репрезентации увечья и инвалидности.
Хотя образ искалеченного солдата так полностью и не исчез из визуальной культуры позднего сталинского периода, он всегда изображался в ретроспективном контексте, то есть его появление ограничивалось фронтом, — в изображении послевоенного общества эта фигура отсутствовала. Между 1945 годом и примерно 1948 годом, когда изображения раненого солдата исчезли [217], он, в отличие от героических образов военного времени, выступал не самостоятельной фигурой, а служил персонажем, оттеняющим героизм других людей. Подобные изображения попадали на страницы как популярных журналов, так и профессиональных альманахов. В качестве примеров можно привести рисунок В. Химачина, на котором медсестра Мотя Нечепорчукова ухаживает за ранеными (1946), или картину Веры Орловой «В разведке» (1947), где изображена молодая партизанка, помогающая раненому солдату пробираться через лес, — эти работы были опубликованы соответственно в «Огоньке» и «Советской женщине» [218]. При этом образ раненого солдата не использовался исключительно в качестве способа превознесения действий женщин во время войны. На картине бывшего партизана Николая Обрыньбы «Первый подвиг» (1947) мальчик ведет двух раненых солдат через лес в безопасное место [219], а на картине Константина Финогенова «И. В. Сталин в блиндаже» (1948) полностью обойдена тема героизма израненного солдата, которого приветствует вождь: солдат оказывается в тени, а Сталин показан отважным и физически превосходящим всех, кто его окружает[220].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу