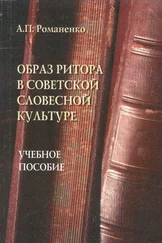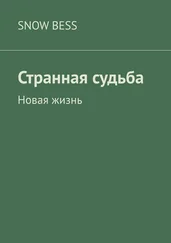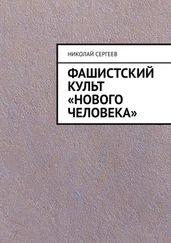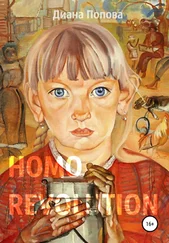Как мы видели, в годы оттепели подобное концептуальное представление о военном братстве главным образом останется без изменений, несмотря на попытки некоторых художников привнести больше психологической глубины в образ солдата-героя. В эти годы гипермаскулинность, некогда бывшая отличительной чертой изображения военных, была узурпирована новым типом героя — трудящимся, который сражался с природой, а не с нацистскими ордами и успех которого в этой борьбе зависел от силы коллектива. Таким образом, наиболее значимое изменение в концептуализации военной маскулинности после смерти Сталина произошло не в период оттепели, как можно было бы ожидать, а вместе с началом систематического культа Великой Отечественной войны в середине 1960‐х годов. Именно тогда началось масштабное строительство мемориальных сооружений и публичные церемонии поминовения павших, что подготовило почву для нового утверждения военного опыта и его значимости для общества того времени. Визуальная культура была очень существенной частью этого нового дискурса. Хотя количество образов, в которых присутствует тема военного товарищества, было скромным в сравнении с некоторыми другими темами, вышедшими в это время на первый план, заметные глубокие изменения произошли всего за несколько лет. Остались в прошлом сцены добродушных шуток, утренних водных процедур и восхищения красотой Советской Родины. На их место пришли работы, где говорилось о реальной цене, которую заплатили люди.
Визуальная эволюция военного товарищества за эти два десятилетия проводит нас от коллективной героической массы и тошнотворно слащавых сторонников мира последних лет сталинизма через благородный отряд братьев по оружию периода оттепели к мрачным и искалеченным мужчинам конца 1960‐х годов. Ирония в том, что этот переход, похоже, демонстрирует, как победа в Великой Отечественной войне поставила военного героя под сомнение в качестве модели идеального советского мужчины.
ИЗОБРАЖЕНИЕ РАНЕНОГО И ИСКАЛЕЧЕННОГО СОВЕТСКОГО МУЖЧИНЫ
Вернувшись домой с фронтов Гражданской войны, Глеб Чумалов, главный герой знакового для 1920‐х годов романа «Цемент» Федора Гладкова, обнаруживает, что завод, где он некогда работал, лежит в руинах. Полный решимости восстановить прежние показатели производства цемента, Чумалов противостоит своим бывшим коллегам, обвиняя их в бездействии, и демонстрирует им свое израненное тело как наглядное доказательство своей преданности советскому делу: на груди, на левой руке, ниже плеча, на боку багровыми и бледными узлами рубцевались шрамы [183]. Патриотизм, героизм и сила Чумалова в буквальном смысле были запечатлены на его теле. Два десятилетия спустя еще один важнейший персонаж советской художественной литературы, Василий Тёркин, будет доказывать свой героизм на войне, демонстрируя поврежденное тело в бане:
Припечатана звезда
На живом, на белом.
Неровна, зато красна,
Впрямь под стать награде,
<���…>
Знаки, точно письмена
Памятной страницы [184].
Для общества, основанного на культе молодости, в котором физическая красота отождествлялась с моральным превосходством, а героический идеал воплощали те, кто делал наиболее значимый вклад в коллектив, поврежденное тело, похоже, не вписывалось в парадигму Нового советского человека. И все же, как было показано в исследованиях последних лет, искалеченное тело имело особый, зачастую противоречивый статус в советском дискурсе [185]. Такая ситуация была особенно характерна для 1930–1940‐х годов, когда трансгрессивные и пограничные аспекты претерпевшего насилие мужского тела сопровождались риторикой (особенно заметной в литературе и кино того периода), в рамках которой раненый солдат фактически оказывался наиболее совершенным воплощением идеализированной маскулинности, образцом советского героизма и силы характера [186].
Однако, как будет показано в этой главе, несмотря на педагогические достоинства и популярность подобных литературных и кинематографических персонажей, соответствующая риторика не обнаруживается в визуальной культуре сталинской эпохи и последующих лет. В отличие от литературы и кино после 1945 года, в живописи человек с увечьями никогда не был идеалом и вообще не выступал фигурой, символизировавшей советский военный опыт. Напротив, до середины 1960‐х годов телесные повреждения, причиненные войной, последовательно изображались как некое временное состояние, как нечто ограниченное зоной боевых действий, как то, что не будет иметь совершенно никакого воздействия на жизнь солдата или его семьи с окончанием войны. Несмотря на то, что другие культурные формы после 1945 года обращались к сложностям опыта инвалидов, визуальная культура по большей части продолжала использовать концептуальные рамки, устоявшиеся в военные годы, где раны символизировали героизм, а не напоминали о цене победы. Фактически изобразительное искусство приблизилось к более жесткому реализму только после момента, когда День Победы был заново учрежден в качестве государственного праздника в 1965 году. Кульминацией этой тенденции стало появление в 1967 году серии работ московского художника Гелия Коржева «Опаленные огнем войны», а сам этот тренд можно рассматривать как одно из направлений в рамках гораздо более масштабной переоценки значимости военного опыта тогдашним советским обществом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу