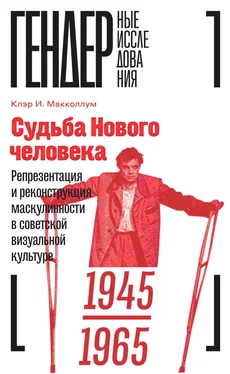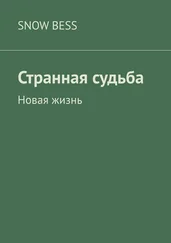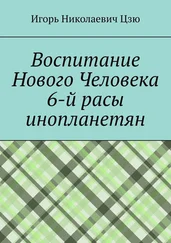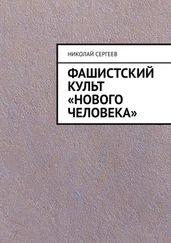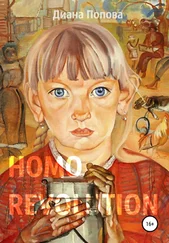Если обратиться к изображению физических увечий, полученных на войне, в промежутке между 1945 годом и созданием берущей за душу картины Коржева «Раненый» в 1964 году, то отсутствие существенной динамики становится лучше всего заметно — по почти не изменившемуся способу репрезентации искалеченного тела, а также по тому, что означало подобное изображение. Израненное тело отождествлялось с предельной решимостью и готовностью к жертве во благо страны, и лишь спустя более чем два десятилетия подобной установке будет брошен вызов со стороны иных представлений о том, что означала эта жертва для бывших солдат. Несомненно, в 1950‐е годы в художественной среде состоялись определенные важные изменения: многие художники демонстрировали все большее желание обращаться к конфликту, присутствовавшему в повседневной жизни, изображать глубоких и сложных персонажей и уходить от высокопарного приукрашивания визуального мира, столь типичного для искусства эпохи сталинизма. Однако вместе с тем следует признать, что в обращении к некоторым аспектам войны, таким как инвалидность, скорбь утраты, бездомность или душевная боль, искусство оттепели по большей части демонстрирует ту же степень колебаний по поводу открытого подхода к подобным темам, что и искусство сталинского периода. Если вынести за скобки воздействие этих обстоятельств на изображение советского человека, то отмеченная визуальная преемственность в части мотивов, тем и недомолвок указывает, что невозможно говорить о наличии одного гомогенного способа реакции советской культуры на события первой половины 1940‐х годов. Хотя литература и кинематограф осваивали некоторые из наиболее проблемных аспектов наследия войны с определенной степенью регулярности и глубины на всем протяжении оттепели, несостоятельно утверждать то же самое о визуальной культуре с точки зрения как всего массива ее произведений, так и тех из них, что попадали в популярную печать. Мы связали это несоответствие с разной природой культурных форм и их способностью по-разному осваивать сложность «правильного» нарратива, который обычно предполагал переход от отчаяния к подлинному триумфу, — шла ли речь о духовном перерождении посредством труда, возвращении домой с фронта или преодолении физического увечья ради возобновления нормальной жизни.
Хотя сам способ представления войны был неоднородным и непоследовательным, в середине 1950‐х годов произошел крайне примечательный сдвиг в изображении идеализированной маскулинности: ключевым элементом в новой, десталинизированной модели того, что значит быть Новым советским человеком, стала фигура отца. Хотя переломным моментом для визуального изображения советского мужчины было появление отца в семейном кругу, набор образов, использованных в то время, все еще был довольно ограниченным, несмотря на их беспрецедентную новизну. Акцент на войне или недавней военной службе создавал представление об отцовстве, по-прежнему основанном на чем-то исключительном, не укорененном в повседневности. Напротив, в середине 1950‐х годов изображение отца стало больше связываться с тривиальной будничной атмосферой, что и делает его непривычным: присутствие отца в доме и его активное участие в воспитании детей больше не связывалось с разлукой, следствием войны. Теперь активное отцовство было чем-то совершенно нормальным и ожидаемым. Кроме того, одновременно становится заметной диверсификация набора жанров, в которых изображались отношения отца и ребенка: фотографии, иллюстрации, карикатуры и произведения изобразительного искусства — все они обращаются к этой теме с невероятным постоянством. Наряду с этой тенденцией, как было показано в последней главе, роль отца воспринималась все более разноплановой, особенно если речь шла о его участии в уходе за маленькими детьми.
Исследователи много раз указывали на последовательную маргинализацию отца в советском обществе и постоянно заявляли об убежденности в том, что, за исключением функции базового экономического обеспечения семьи, отцовство никогда не рассматривалось государством как неотъемлемая часть модели маскулинности [605]. Однако по масштабу и количеству появлявшихся в этот период изображений заметно, что представленный в них взгляд попросту не соответствует такому представлению о Новом советском человеке. Таким образом, свидетельства визуальной и печатной культуры подразумевают, что нам необходимо произвести переоценку значения отцовства, когда речь идет о конструировании социальной роли советских мужчин. Хотя риторика и законодательство этого периода могут сигнализировать о том, что материнство по-прежнему рассматривалось как некий принципиальный момент, а отцовский вклад оставался периферийным, это не отрицает тот факт, что визуально мужчины — как реальные, так и воображаемые — постоянно изображались заинтересованными в развитии своего ребенка и поддерживающими эмоциональную связь с ним. Такой способ изображения был беспрецедентным для советской культуры. Применительно к другим странам, пережившим коллективную травму Второй мировой войны, утверждалось, что представление о том, что значит быть «хорошим» отцом, смещалось в это время от оставшейся в прошлом викторианской модели к более открытому и эмоционально вовлеченному идеалу[606]. Исходя из свидетельств, представленных на страницах популярных журналов, можно утверждать, что Советский Союз имел в этом отношении — формировании новой модели отцовства — гораздо больше общего с западными капиталистическими странами, чем признавалось прежде.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу