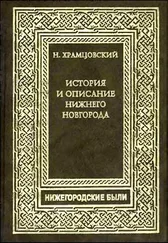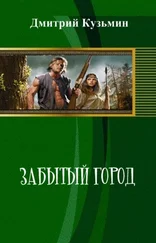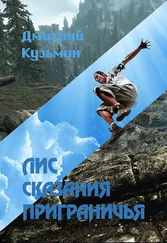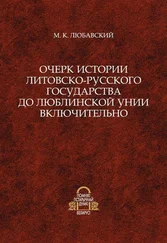Ср. размышления Б.П. Иванюка о различии между текстами «с ассоциативным типом сходства» (референт сравнения предшествует агенту) и «стихотворениями-уподоблениями» (обратная последовательность) [Иванюк 1998, 164, 226–227].
Обратимость отношений между текстом и названием подвергается особой проблематизации в том случае, когда инвертирована не только логика их соединения, но и объем, – например, в «удетеронах» (однословных текстах) в понимании Йена Хэмилтона Финлея и его соратников по шотландской школе поэтической миниатюры (см. стр. 46):
КАМНИ В ПОЛЕ ЭТО ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ
Йен Хэмилтон Финлей
БЛАГОУХАННАЯ НОЧЬЮ КУВШИНКА
Томас Кларк [Atoms 2000, 161, 173]
– возможно, прецедентным типом текста для такой конструкции является загадка.
Впрочем, повтор заглавия в тексте, особенно в сильных позициях текста – начале и конце, сам по себе достаточно характерен [Кожина 1988, 170–171]. Следует, однако, возразить против предложения терминологизировать названия, непосредственно повторяемые в тексте, как «тавтологические» [Иванченко и др. 2015, 270]: такой термин без должных оснований имплицирует самоочевидность, тривиальность выделения в данном поэтическом тексте центрального предмета высказывания.
Ср. данные опроса поэтов в [Иванченко и др. 2015, 305] – хотя базу этого опроса и сложно назвать репрезентативной.
Те или иные формы звуковой корреляции названия и текста встречаются и в текстах большего объема [Кожевникова 1988, 210–212; Иванченко и др. 2015, 270–271], однако характер их, в силу значительного различия в объеме названия и текста, иной.
Ср. также выполненный Х. Вендлер анализ стихотворения У.С. Мервина (стр. 39–40).
Об аналогичных модификациях многоточия у других авторов см. [Суховей 2008, 118].
Относительно высокая частотность этого знака – за счет 33 употреблений у одного автора, Валентина Загорянского, культивирующего своеобразную медитативно-экстатическую интонацию:
Дождь мой, брат мой кратковременный!..
[Загорянский 2000, 102]
Сходные соображения, хотя и в более мягкой форме, встречаются и у других специалистов: «моностих stricto sensu не только ограничен одной строкой, но и не должен вводить подрывающие <���ее целостность> элементы средствами синтаксиса, пунктуации, дополнительных пробелов: его цель – создание единого образа в едином предложении» [Moga 2007, 49] или «настоящие однострочные стихотворения ‹…› не содержат принудительных пауз, обозначенных пробелом, грамматически, синтаксически или пунктуационно, хотя и могут включать логическую пунктуацию, как в случае однородных прилагательных при существительном» [Higginson 2004].
«Новый знак препинания: недоконченная строка, благодаря которому нам не приходится уже гадать о ритмических замыслах автора» [Пешковский 1925, 166]. Вряд ли можно признать правомерным приравнивание знаков, отражающих ритмическую структуру текста, к знакам, отражающим его синтаксическую и интонационную (в итоге, следовательно, смысловую) структуру.
Ср., однако, замечание И.И. Плехановой о том, что лишь минимализм «очищает» моностих «от строгости формы – от знаков препинания завершенного высказывания» [Плеханова 2007, 264] – из контекста, однако, видно, что для Плехановой пунктуация существенна как знак апелляции к языковой норме, а не как отражение сегментированности текста.
Ср. также замечание Эммануэля Окара по поводу моностиха Жозефа Гульельми:
– где увеличенный пробел соответствует времени перефокусировки взгляда, поскольку стихотворение в целом передает последовательность впечатлений [Hocquard 1995, 9].
Подробнее об этих текстах речь шла выше (см. стр. 262–263).
«Пространственно-визуальной» по Дж. Янечеку, противопоставляющему эту функцию семантико-синтаксической и интонационно-экспрессивной [Janecek 1996b, 297].
Особенно характерен для Айги начальный союз «и» с двоеточием после него [Janecek 1996b, 302], важность начального «и» и двоеточия для собственной поэтики была отрефлексирована и самим Айги [Айги 2008, 391].
Ср. у М.И. Шапира, автора наиболее фундаментальной стиховедческой концепции последнего времени: «Дедуктивное определение стиха наука дать не в состоянии. Индуктивным это определение тоже быть не может: сколько бы стихов мы ни рассматривали, мы не вправе утверждать, что прочие обладают теми же признаками. ‹…› Вместо того, чтобы ориентироваться на привычные, типовые формы стиха, надо сосредоточиться на аномалиях. При условии, что маргинальные явления учтены нами достаточно широко, они очертят собой эмпирическое поле, в центр которого попадут наиболее распространенные случаи» [Шапир 2000d, 81–82].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу