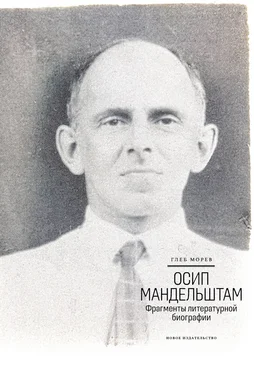Важнейшим свидетельством настроений Мандельштама в эти дни является донесение одного из осведомителей ОГПУ в писательской среде [244], опубликованное П.М. Нерлером. Хотя архивное происхождение этого документа нуждается в уточнении, у нас нет оснований сомневаться в его подлинности.
Я решаюсь читать тогда, когда террор поднял голову, когда расстреливают полуротами, когда кровь льется ведрами… Конара мне жаль. Мне непонятны причины его участия в этом деле, хотя у него всегда было что-то чужое, барское. Верней всего, это ответ Гитлеру и Герингу, которые обсуждали с какими-то дипломатами вопрос об отторжении Украины от СССР. Заметьте, что с момента ареста Конара пошли слухи о шпионаже и даже о расстреле. По-видимому, кому-то что-то было известно, что-то носилось в воздухе. «Всем нам надо бежать куда-нибудь в Абхазию, в Тану-Тувинскую республику, там душе спокойно» [245].
Внимательное прочтение этого текста никак не позволяет считать его, как это делает публикатор, «подстрочником „эпиграммы” на Сталина, пусть пока и не написанной» [246].
Прежде всего, поэт принципиален в отрицании террора как явления, которому «объективно» противостоит его писательская деятельность, поэтому в дни, «когда кровь льется ведрами», его собственное выступление представляется Мандельштаму результатом преодоления некоего внутреннего колебания – не в смысле угрозы его личной безопасности, а в смысле глубинной неорганичности его участия в литературной жизни на фоне происходящих казней. Однако последующий ход рассуждений Мандельштама (во всяком случае, в изложении сексота ОГПУ) демонстрирует, как это было и в письме Н.Я. Мандельштам Молотову, сугубо лояльный по отношению к официальным установкам – на сей раз информационным – подход. Мандельштам последовательно «отчуждает» Конара, подчеркивая в нем «чужое, барское» [247]и находя «рациональное» объяснение расстрельному приговору – шпионаж, о котором «кому-то что-то было известно», и внешнеполитический контекст, связанный с приходом к власти национал-социалистов в Германии [248]. Тем не менее существование в атмосфере террора угнетает его и возвращает к мыслям об уходе, «побеге» – но уже не из литературы, а из Москвы или даже из СССР (эти настроения, как мы увидим, укрепятся к осени 1933 года). Собственно вина Конара [249]нигде не ставится Мандельштамом под сомнение [250].
В самом начале апреля был арестован Б.С. Кузин, самый, по-видимому, близкий в этот период друг Мандельштама [251]. Узнав об этом, поэт обращается с письмом к М.С. Шагинян. Прагматика этого письма, на первый взгляд, до конца не ясна. Выбор адресата очевидным образом продиктован тематикой посылаемого Шагинян вместе с письмом «Путешествия в Армению» и общей связью Шагинян и Кузина, с которыми Мандельштам встречался в свое время в Ереване, с темой этого текста. В письме Мандельштам информирует Шагинян (которая с середины 1920-х годов демонстративно занимала общественную позицию «восхищения происходящим до восторженности» и еще в 1929 году аттестовала себя как «сталинку» [252]) об аресте Кузина, объясняя его сугубо частными претензиями Кузина к советской действительности и настаивая, таким образом, на чрезмерности этой репрессии («Каково же бывает, когда человек, враждующий с постылым меловым молоком полуреальности, объявляется врагом действительности как таковой?» [III: 514]).
Информация об аресте Кузина в письме к Шагинян дала его публикатору П.М. Нерлеру основания предположить, что письмо поэта имело целью «попытаться через адресата помочь молодому другу Мандельштама» [253]. Однако, если рассматривать письмо в этом ракурсе, выбор адресата кажется не очевидным. Как пишет тот же Нерлер, «непонятно, какие у Шагинян могли быть для этого приводные ремни» [254]. Отметим также, что в этот период сама Шагинян испытывала цензурные трудности в связи с изданием своего «Дневника. 1917-1931» (Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1932 ) [255].
Ситуация с выбором Шагинян в качестве возможного «передаточного звена» между Мандельштамом и властью проясняется, если иметь в виду, что за два года до этого Шагинян удостоилась личного и весьма благожелательного письма Сталина, откликнувшегося на ее просьбу помочь с изданием романа «Гидроцентраль»:
20 мая 1931 г.
Уваж<���аемая> тов. Шагинян!
Должен извиниться перед Вами, что в настоящее время не имею возможности прочесть Ваш труд и дать предисловие. Месяца три назад я еще смог бы исполнить Вашу просьбу (исполнил бы ее с удовольствием), но теперь – поверьте – лишен возможности исполнить ее ввиду сверхсметной перегруженности текущей практической работой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу