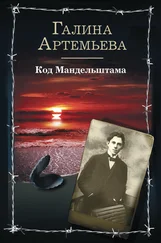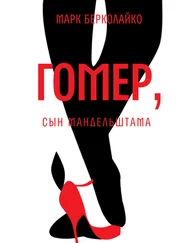…только пустой человек или нравственный урод мог оставаться равнодушным к тому, что творилось в тогдашней России. В этой отсталой, несуразной стране жизнь была разделена на всяческие рубрики, обставлена всяческими препятствиями, которые возникали на каждом шагу, со всех сторон, скрещивались и составляли решетки тюрьмы. Уже в детстве я слышал, как взрослые говорили о «праве жительства». Я запомнил фразу: «Скоро еврей уже не будет иметь права переходить улицу!». Наш город был одним из немногих мест Российской империи, где никогда не было еврейских погромов. Но в соседнем городе погромщики останавливали прохожих, расстегивали им штаны, разыскивали «обрезанных», а в других областях вспарывали женщинам живот, вбивали в голову гвозди, пронзали ноздри, и где‐то гремел рояль, сброшенный с пятого этажа, а в рояле лежал изуродованный, еще теплый труп пятилетней девочки… О, мирная, серая русская инквизиция XX века, без аутодафе, без парада! Но насколько она богаче трупами, чем испанская! 435
(Позднее он написал книгу своих переводов «Испанские и португальские поэты – жертвы инквизиции» 436, на Мандельштама она произвела сильное впечатление…)
…я притворился перед самим собой равнодушным к трагическим событиям, даже к преследованиям, к истреблению евреев. Я намеренно закрывал глаза на все мерзости, преступления и ужасы царской России. Я изнывал в моем городишке: словно магнит, меня притягивал Петербург. Ведь там, казалось мне, расцветало то, что я любил больше всего: поэзия. Там жил мой любимый поэт Александр Блок… Там, по слухам, известный режиссер ставил странные, смелые спектакли. <���…> мое юное честолюбие влекло меня именно на этот Север, который я представлял себе не иначе как в обличье поэзии. Я рвался в эту неизвестность, в город, казалось мне, моей будущей славы: я был издали ослеплен им, словно бык – светом арены.
* * *
Рабство настолько растлило самую душу евреев, что многим из них бесправие казалось вполне естественным; они даже не подозревали, что, не имея права жить в большей части своей родины, они тем самым сведены на уровень уголовных преступников, а обладание этим правом считали чуть ли не честью. Я еще притворялся равнодушным к «политике», слепо шел по намеченному пути, но что‐то во мне, наконец, восставало и тайно клокотало.
На этом Севере я с тоской помышлял о Египте, Турции, Сирии, Греции, Испании, Италии, юге Франции.
(«Им только снится воздух юга – /Чужого неба волшебство…» 437, писал его двойник Мандельштам.)
Между тем приближался день разбирательства дела Бейлиса. Уже два года Бейлис томился в тюрьме. Легенда о ритуальных убийствах евреями христианских детей была столь же гнусна своими кровавыми целями, сколь и своей пошлостью. Над евреями нависло новое нелепое обвинение. После погромов 1905 года это была новая мерзость. Засмердел целый грязный мир. Время, казалось, вернулось вспять: больше, чем когда‐либо, русский XX век показал свой настоящий облик: харю средневековья. Зловоние этого запоздалого христианства стало невыносимым… Огромная зевота омерзения. О, изблевать эту муку!..
* * *
Дело Бейлиса стало для меня тем же, чем для некоторых французских евреев было в свое время дело Дрейфуса: своего рода откровением. (Дело Бейлиса всколыхнуло и Мандельштама. Об этом стихотворение «Отравлен хлеб и воздух выпит…») Столько лет я обманывал самого себя! Столько лет я предавал помыслы моего детства! Столько лет я словно спал, и вот, наконец, проснулся! И малопомалу я с ужасом почувствовал, что ненавижу такую Россию, что, может быть, тайно, не признаваясь самому себе, я уже давно, всегда ее ненавидел и что надо ее ненавидеть. Казалось, впервые я распознал то, что поразило меня в самое сердце, что перерастало и мою личную боль, и трагедию целого племени. Эта ненависть меня как бы очистила: ведь впервые я искупал мое многолетнее равнодушие, мое себялюбие, мой обман, мой самообман. Но эта же ненависть меня сжигала, леденила, превращала в истукана. Она стала для меня трагической необходимостью, вызывала во мне чувство небытия. <���…> Годами я об этом молчал, скрывая это, как язву. …Музыка возносила мою ненависть к вершинам великолепия. В музыке мне открывалось, что моя участь непоправима. Это омерзение, негодование, ярость составляли для меня своего рода поэзию. Раньше область стихов была для меня убежищем, и вот это последнее убежище осквернено царской Россией. Ведь язык – некая броня, которая предохраняет поэта от натиска внешнего мира. И вот эта броня оказалась неверной защитой. Ведь язык – оружие, мое единственное оружие. И вот я обезоружен. И это оружие обращается против меня самого.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)