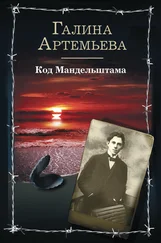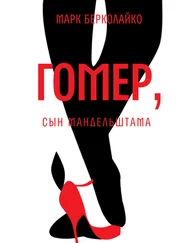Тончайшими кислотными реакциями глаз – орган, обладающий акустикой (выход к слуху! – Н.В .), наращивающий ценность образа, помножающий свои достижения на чувственные обиды… поднимает картину до себя, ибо живопись в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции… 331
И чтобы охватить взглядом море он «растягивал зрение, как лайковую перчатку».
Я быстро и хищно, с феодальной яростью осмотрел владения окоема».
Разве эта фраза не напоминает ту «ростовщическую силу зренья» хищных птиц, состоящих при Зевсе? Это лишний раз говорит о том, что для Мандельштама эти помощники – художники и поэты (и он в их числе).
И я начинал понимать, что… цвет не что иное, как чувство старта, окрашенное дистанцией и заключенное в объем.
Цвет, как стартовый пистолет, запускающий «машину образов» из «Разговора о Данте». Современная живопись вообще сломала геометрические законы пространства и устремилась в просторы времени, цвета зазвучали. Шагал, Сутин, Лисицкий, почти ровесники Мандельштама, были в авангарде этого «выхода из пространства». Пауль Клее, музыкант из семьи музыкантов, писал о своей живописи:
Освободившись хотя бы на время от отчуждающего действия графической магии и принудив себя к внимательному и холодному разгляду, я, возможно, увижу вдруг в причудливых изгибах линий нечто подобное остаткам иероглифического письма, может быть слишком древнего и безвозвратно искаженного, чтобы его можно было сегодня дешифровать. А может быть, если размышлять дальше, отказывая в доверии глазу, перед нами разновидность нотной записи, и на место глаза следует перевести тонко чувствующее ухо. Бессилие графического перед силами музыки.
Яркий пример – Марк Ротко с его поющими сочетаниями цветных плоскостей.
Музыка не новость в поэзии, но Мандельштам вносит в нее и краску 332. В финале «Канцоны», «в сухом остатке» остаются только две не поблекшие краски, связанные с двумя чувствами: «в желтой – зависть, в красной – нетерпенье». Если таков финал центрального метафизического стихотворения, то речь, должно быть, идет о смерти и жизни, в конце концов, к ним все сводится. Желтый – смерть, красный – жизнь, золото статуй и кровь тел.
Люблю изогнутые брови
И краску на лице Святых,
И пятна золота и крови
На теле статуй восковых 333.
Это противопоставление красок «вписывается» и в «еврейский контекст» стихотворения. Золото – «еврейский цвет», в христианских странах евреи издавна носили желтые знаки, как цвет отверженных, и это цвет высохшей мертвой травы. Но – это и цвет желтка, зародыша, нового начала! И у Мандельштама это цвет времени – «золотой самум» 334.
Время в музее обращалось согласно песочным часам. Набегал кирпичный отсевочек, опорожнялась рюмочка, а там, из верхнего шкапчика в нижнюю скляницу та же струйка золотого самума 335.
А в красном – нетерпение быстротекущей жизни, но «пестрый день» жизни – он же и «мертвый шершень возле сот», его стряхивают с руки как прозрачное виденье. И вообще красный цвет поэт не особо жалует, это не его цвет:
Зато я невзлюбил Матисса…Красная краска его холстов шипит содой… Его могущественная кисть не исцеляет зрения, но бычью силу ему придает (как бинокль – Зевсу), так что глаз наливается кровью 336.
В красном еще и апокалипсическое, кровавое нетерпение Красной республики немедленно построить светлое будущее. Эти два цвета противостоят друг другу, как смерть и жизнь, но они и чередуются, сменяют друг в друга. А Мандельштам уже понял, что нетерпенье, как и Апокалипсис – не его традиция.
Не волноваться. Нетерпенье – роскошь,
Я постепенно скорость разовью —
Холодным шагом выйдем на дорожку —
Я сохранил дистанцию мою 337.
Глава 4. Стихи о русской поэзии
Летом 32‐ого Мандельштам пишет триптих «Стихи о русской поэзии», цикл начинается с обращения к Державину и панегирика Языкову, а заканчивается посвящением Сергею Клычкову. Это прощание с Россией, заочная ностальгия, и даже – отход от русской культуры («тоска по мировой» 338). Соответственно и выбор имен, к кому он обращается в этих стихах.
Державин здесь – татарская Русь («и татарского кумыса твой початок не прокис»), а «татарва», «спускающая князей на бадье» в срубы‐гробы, она же «нехристь» – нечто совсем чуждое, если не сказать враждебное Мандельштаму, хотя от нее никуда не деться:
Какое лето! Молодых рабочих
Татарские сверкающие спины…
Могучий некрещеный позвоночник,
С которым проживем не век, не два!
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)