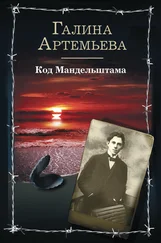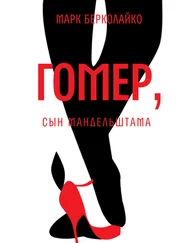Шестая глава Исайи послужила Пушкину основой его «Пророка». О похожем восшествии на небо, только более подробно, рассказывает в мистическом тексте о небесных дворцах (апокриф «Книга Еноха») рабби Ишмаэль:
По прошествии часа Святой, будь Он Благословен, отворил передо мной врата Шехины, врата мудрости, врата силы, врата могущества, врата речи, врата песни, врата освящающего восхваления, врата воспевания. Он просветил мой взор и мое сердце, дабы я воспел гимн… И когда я открыл свои уста, святые души под Троном Славы и над Троном Славы вторили мне, говоря: «Свят, Свят, Свят и Благословенна Слава Господня!…»
Формула тройного освящения сохраняется и в современных еврейских молитвах, наверняка известных Мандельштаму, раз он ходил отроком в синагогу.
Этот же мотив славы, как атрибута небожителей и причины их пребывания в небесных сферах, характерен и для античной мифологии, откуда он перекочевал в Средневековье и наше время. Элизиум, где обитали земные владыки, герои и поэты, был «пристанищем славы», трубадур 12 века называет его «сад славы», через славу смертные приобщались к бессмертным богам 229, одевшись «славой» – к небожителям (в мистических иудейских и христианских текстах).
Небожители, среди коих чает оказаться герой, названы «банкирами горного ландшафта», «храмовниками базальта» (в черновике), «держателями могучих акций гнейса» 230. То есть, они и хозяева земли. Не зря же горы – место встречи небесного и земного (греческие боги, как известно, были прописаны на Олимпе). В следующей строфе Мандельштам сравнивает их с орлами, что «выводит» в дальнейшем на Зевса, верховного бога античности: орел – атрибут Зевса, его помощник и оруженосец (носит его стрелы‐молнии), Зевс поручает ему ответственные задания, а то и сам превращается в орла, чтобы их выполнить. В этой компании небожителей легко вообразить и поэтов: Мандельштам не забывал стихов Блока о «Данте с профилем орлиным»… 231
Похожие «возвышенные» мотивы есть в «Поэме горы» Марины Цветаевой. Она написана в 1924 году в Праге и опубликована в 1926‐ом в парижских «Вёрстах», и ко времени написания «Канцоны» этот текст мог быть Мандельштаму знаком. Есть даже совпадение метафор: у Цветаевой «Та гора хотела губ…», у Мандельштама в стихах об Армении: «Гора плывет к губам…» Цветаева пишет: «Та гора была – миры!»; «Горы времени у горы»; «Та гора была, как гром!…» – здесь почти назван Зевс, громовержец и царь горы.
И у Мандельштама все эти силы небесные, банкиры горных ландшафтов и священные птицы, управляются некой высшей властью, она появляется в начале третьей строфы в образе Зевса: «То Зевес…». С помощью метафор, связанных с финансовой сферой: «банкиры», «держатели акций» (появляется еще и слово «ростовщический»), Мандельштам выстраивает образную систему сосредоточия силы, могущества, накопления ценностей, строит образ власти. Но это не только власть над породами земли, над «материей», но и власть духовная: над громадами памяти, над историей и культурой. Ведь и деньги, и акции – ценные бумаги, и ценность их в знаках. А геологические слои гнейса похожи на старые манускрипты, на страницы, спрессованные в Книгу Жизни…
Прелестные страницы, посвященные Новалисом горняцкому, штейгерскому делу, конкретизируют взаимосвязь камня и культуры, выращивая культуру как породу… 232
В «Разговоре о Данте», этом путеводителе по собственной поэтике 233, Мандельштам сравнивает грандиозное творение флорентийца с движениями горных пород.
К Данту еще никто не подходил с геологическим молотком, чтобы дознаться до кристаллического строения его породы, чтобы изучить ее вкрапленность, ее дымчатость, ее глазастость… Структура дантовского монолога,
построенного на органной регистровке, может быть хорошо понята при помощи аналогии с горными породами…
Тут Мандельштам идет строго в фарватере Бергсона: сознание‐память и материя связаны, взаимозависимы, взаимно проникают друг в друга. Сказано в «Творческой эволюции»: «Жизнь – это сознание, брошенное в материю».
Единство “я”, о котором говорят философы, предстает мне как единство какой‐то предельной точки или вершины, в которую я сжимаю себя усилием внимания, – усилием, которое я продолжаю всю жизнь и которое… и есть сама моя жизнь… 234
«Предельная точка или вершина» это сгусток времени, на метафорическом языке поэта – «язык пространства, сжатого до точки» 235. Мандельштам видит работу поэта, как работу естествоиспытателя и философа 236, и весь его «Разговор о Данте», как и многие стихи – комментарий‐толкованик к философии Бергсона, которую Мандельштам принял, как метод виденья целого: оно есть длительность, сознание‐память, история.
Читать дальше
![Наум Вайман Преображения Мандельштама [litres] обложка книги](/books/429967/naum-vajman-preobrazheniya-mandelshtama-litres-cover.webp)