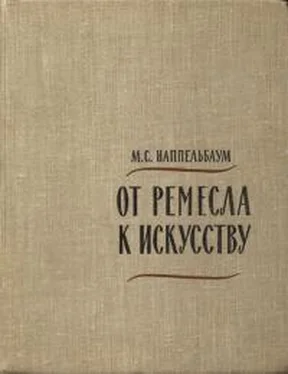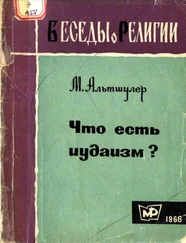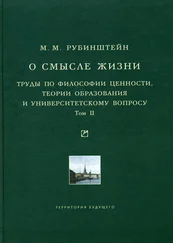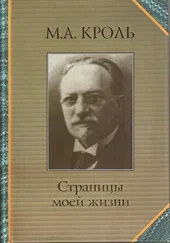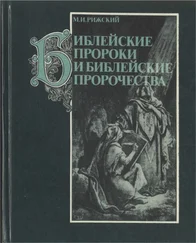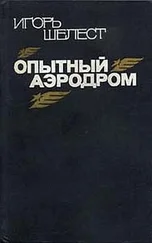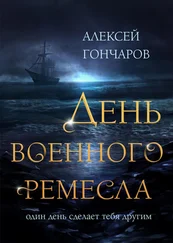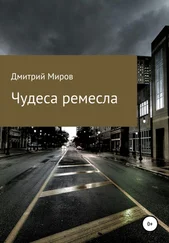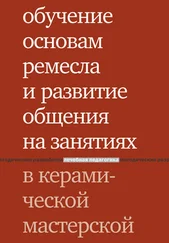Я говорил уже, что в те годы не сумел по достоинству оценить мои будущий главный «университет» — Третьяковскую галерею. К сожалению, не я один повинен в этом. Почти весь профессиональный фотографический мир, который утверждал, что фотография — искусство, в сущности, создавал вместе со своим неискушенным заказчиком специфический стиль, весьма далекий от подлинной художественности, ибо не знал, не изучал и не понимал изобразительное искусство.
Первое посещение Третьяковской галереи произвело на меня такое же впечатление, как первая симфония, услышанная мною.
В нашей семье любили музыку. Одна из моих сестер впоследствии окончила Петербургскую консерваторию. Интересовались и живописью, тянулись к искусству. Но дореволюционная провинция была крайне бедна произведениями искусства. Мои познания в области живописи ограничивались случайными репродукциями с картин великих художников. Поэтому, придя впервые в Третьяковскую галерею, я несколько растерялся. Видеть и слышать надо уметь. Этому необходимо учиться. Человек с неразвитым слухом н неопытным глазом реагирует главным образом на резкие звуки, на яркие краски, не замечая ни полутонов, ни нюансов. Так и я. Я еще не мог оценить все обаяние русского пейзажа, хотя и обратил внимание на желтую рожь, которая как будто колышется на полотне, на позднюю осень, на левитановское «Над вечным покоем». Больше того, даже портреты, которые мне были так близки и интересны, я не сумел еще в то время понять, заметить, как глубоко и многогранно отражен в них человек. Меня по молодости лет влекли яркие краски, и хорошо, что в русской живописи они сочетались с глубокой и сложной мыслью, с острым драматизмом, с живыми образами людей. Помню, какое сильное впечатление произвела на меня картина И. К. Репина «Иван Грозный и сын его Иван».
Оставаться в Москве долгое время без прописки было неразумно, да, кстати, мне сообщили, что в Козлове нужен фотограф. Я снова пустился в странствования. Козлов, Одесса, Евпатория, Вильна, Варшава, города Америки... Куда только не бросала меня судьба!
В те годы, на рубеже XX века, фотография уже завоевала положение «изящного искусства». Но на деле ее эстетика, её изобразительные средства все еще имели мало общего с подлинным искусством. Основным требованием фотографии была внешняя красивость, а для нее я не находил материала в Козлове. И я перебрался в Одессу. Само собой понятно, что мое воображение прежде всего поразило впервые в жизни увиденное море. Но едва ли не еще более сильное впечатление произвела на меня знаменитая лестница, спускающаяся с Дерибасовской улицы, так трагически обыгранная впоследствии С. М. Эйзенштейном в его фильме «Броненосец Потемкин».
Путешествия всегда обогащают человека, расширяют не только его общее представление о мире — каждый профессионал, странствуя по городам, обязательно приобретает те или иные новые познания по своей специальности. На Дерибасовской улице мое внимание привлекла витрина фотографии Чеховского. Здесь были запечатлены крупным планом головы. Никаких «бюстов», ни одного снимка во весь рост. Это была новая манера фотографировать, мне еще не приходилось встречаться с такими приемами композиции. Но еще больше удивило меня богатство световых эффектов — множество глубоких теней, бликов. Южные лица, так необычайно освещенные, походили на эстампы с итальянских картин, которые я видел в Москве в магазине эстампов и гравюр. Зачарованный, я смотрел на витрину и думал, как велика подчиненность фотографа модели. Ведь не что иное, как южный характер лиц заказчиков побудил мастера прибегнуть к такому оригинальному освещению — к светлым пятнам, которые подчеркивали строгие линии лба, носа, подбородка, гордую посадку головы. «Что это? — спрашивал я себя. — Где он нашел такие интересные лица?»
В центре города была еще одна большая фотография, если не ошибаюсь, грека Антонополо, чьи работы были значительно стандартнее, ближе к «изящной светописи». Эта фотография имела наибольшее количество заказчиков. Увы! — явление в те времена обычное. Лучший фотограф редко пользовался успехом. Потребитель диктовал свой вкус, и горе было тому, кто шел своим путем. Чеховской, этот прекрасный мастер, которому стало тесно в Одессе, уехал в Москву, где, к сожалению, слился с массой фотографов большого города.
Я поступил работать помощником фотографа в фотомастерскую Л. Е. Лейхтенберга. Мне рассказывали, что мой предшественник был инициативным и веселым юношей, который избрал свой способ привлекать клиентов. — к каждому выполненному заказу он прилагал бесплатный увеличенный портрет. Я впервые встретился с таким коммерческим приемом. Завлекать заказчиков бесплатными премиями мне показалось унизительным.
Читать дальше