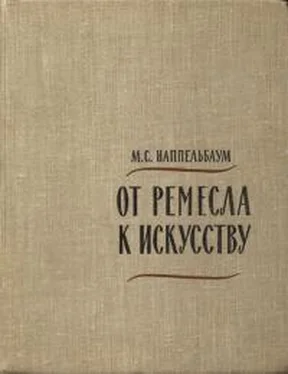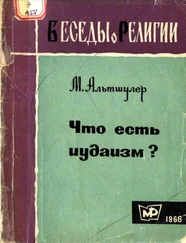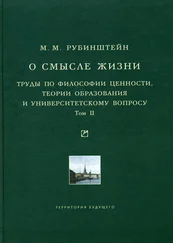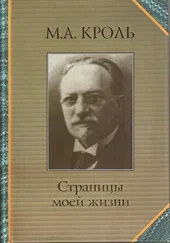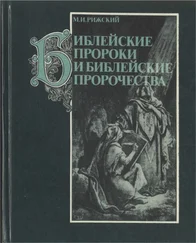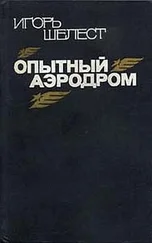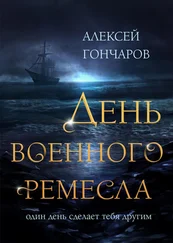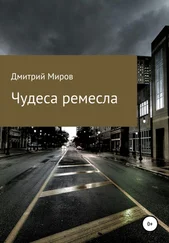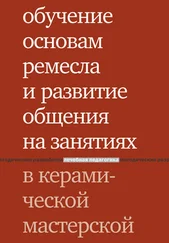С тех пор прошло ужо более семидесяти лет, а проблема «воздуха» в фотопортрете, проблема заполнения пустого пространства все время меня занимает, и мои пятна на фоне — это одно из решений этой задачи.
В те времена ретуши придавалось огромное значение. Ретушь, предназначенная для заделывания царапин на пластинке или темных пятнышек, которые образуются на негативе, если у сфотографированного человека не вполне ровная кожа на лице, создавала целую армию штукатуров человеческого лица и породила особый, «приятный» стиль фотографии.
Сейчас культурные фотографы стремятся свести ретушь до минимума, ибо ничто не вредит так фотоискусству, как увлечение ретушью, «приглаживающей» лица, замазывающей морщины, складки, впадины и т. н. Не случайно И. Е. Репин говорил: «...я ненавижу ретушь» 4. Но в ту эпоху, как и в долгие последующие годы, ретушь считалась важным компонентом фотомастерства. И я, ученик, обязан был овладеть этой премудростью. Следующей ступенью был уже сам процесс фотосъемки.
Мой хозяин часто уезжал в гости к соседним помещикам и, вопреки всем правилам, оставлял меня снимать самостоятельно. Я помню свои первые затруднения. Пришла сниматься молодая пара, жених и невеста. Я настолько был неопытен, что никак не мог поместить их вдвоем на пластинке, и плечи снимающихся оказались срезанными. Но зато по отдельности я снял их удачно, и всеми было признано, что фотоснимки получились на хорошем уровне. Мне удалось создать не совсем обычные портреты — крупный план, мягкие тени и полутона, эффектный поворот головы. Честно говоря, я не совсем понимаю, откуда у меня, совершенно неопытного фотографа и неискушенного в изобразительном искусстве молодого человека, тогда уже появилось желание решать вопросы, которым я впоследствии отдал всю свою жизнь. Проблема трактовки натуры, фона, освещения — вот что больше всего волновало меня на протяжении полувека.
Все мои поиски, мучительные сомнения и колебания, ошибки и их преодоление, победы и поражения связаны именно с этими коренными вопросами, которые я и сейчас считаю самыми важными в искусстве фотопортрета.
Помню также, что уже тогда меня стала интересовать психология заказчика, — чем он руководствуется при выборе мастера. Я задумался, почему пришедший тогда случайный заказчик, не застав мастера-фотографа дома, предпочел меня, несведущего юношу, профессионалу. Может быть, он почувствовал в моих, отнюдь еще не квалифицированных работах нечто свежее, нестандартное? Я часто думаю об этом и сейчас, потому что именно такие потребители, интуитивно ищущие самобытное, нешаблонное, поддерживали меня в моих трудных исканиях. Это они, зачастую даже без моего ведома, ратовали за меня, помогали не только мне, разумеется, — они помогали фотографии преодолеть ремесленничество, стать на путь искусства, творчества.
Три года ученичества прошли, и вот я уже мастер на жаловании, но вместе с тем я чувствую, как мало знаю, как многому надо научиться. Но где и у кого? Ни одной книжки, ни одного учебного заведения. Наоборот, все засекречено кустарями. Единственное средство — ехать в Москву: там корифеи, у них работать, у них учиться...
С этого момента начались годы моих странствий. Будем говорить прямо, не только стремление учиться, повидать работы различных фотомастеров, не «охота к перемене мест» побуждали меня переезжать из города в город. Я искал заработка.
По дороге в Москву мне удалось устроиться помощником к одному из смоленских фотографов. Смоленск расширил мои представления о мире вообще, о фотографии в частности, хотя на первый взгляд этот город мало чем отличался от Минска.
Но в Минске царила безработица, перенаселенность, в Смоленске мещанству жилось сытнее, спокойнее, вольготнее. Близость Москвы, которая снабжала недалеко расположенные города хорошими работниками, способствовала и росту фотографии в Смоленске.
Здесь обращала на себя внимание витрина фотографии Поссе. Композиция портретов Поссе показалась мне довольно упрощенной, но заинтересовал общий тон отпечатков — не вишневый, какой обычно давала альбуминная бумага, а почти черный, словно это соляная бумага. Я долго присматривался к этим снимкам и запомнил их.
В Смоленске я впервые столкнулся с процессом увеличения, правда тогда еще весьма примитивным.
Увеличительный аппарат был приспособлен для работы дневным светом: конденсор собирал солнечные лучи, и изображение проецировалось на обычную альбуминную бумагу, причем увеличение экспонировалось в течение трех и более часов, затем портрет вирировался обычным для этой бумаги способом. Фотограф должен был откладывать все свои увеличения на весну и лето. Для таких портретов требовалась особая ретушь. Фон натирался соусом, на нем обязательно должны были быть облака, лицо штукатурилось для выявления структуры, а брови отделывались под «мышиные хвостики».
Читать дальше