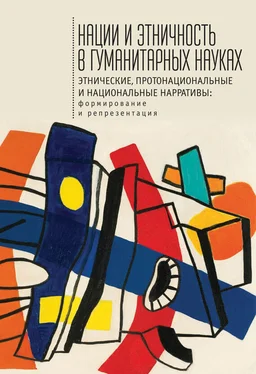Вне зависимости от избранной парадигмы, для представителей власти была очевидна необходимость в такой репрезентации этнического многообразия, которая бы не нарушала единства государства. Результатом этого стала организация этнографических музеев и многочисленные публикации, в популярной и научно-популярной форме описывающие народы империи. Однако власть не могла полностью контролировать этот процесс – появляется множество статей и брошюр, посвященных отдельным народам, в которых они были представлены вне имперского контекста.
Безусловно, первые попытки репрезентации этнического состава Российской империи предпринимались гораздо раньше (в 1773–1788 гг. были опубликованы заметки П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства», в 1799 г. вышло «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» И. Г. Георги, а в 1851 г. появилась «Этнографическая карта Европейской России» П.И. Кёппена), но они не были ориентированы на широкую публику, получив распространение только в научных кругах или среди представителей власти. Последним крупным проявлением этого направления стал великолепно иллюстрированный труд Г.-Т. Паули «Этнографическое описание народов России», вышедший к 1000-летию России (1862 г.; рукопись его была подарена императору Александру II в 1857 г. [199]) на французском языке.
В эпоху Великих реформ ситуация начала меняться – теперь необходимо было охватить гораздо более широкие слои населения, в том числе и малообразованные. Сделать это было возможным через смену механизмов репрезентации, перейдя от сложных письменных текстов (зачастую на французском или немецком языках) к визуальным образам и более легкой публицистике.
Итогом этого поворота стало проведение в 1867 г. Этнографической выставки в Москве, приуроченной ко II Славянскому съезду. По своему замыслу и масштабу реализации это было действительно знаковое событие. На протяжении более двух месяцев (с 23 апреля по 19 июня 1867 г.) двери выставки были открыты для всех желающих (коих было более 80 тысяч) [200]. По словам И. И. Шангиной: «Правительство, поддержавшее инициативу ученых, предполагало, что выставка должна продемонстрировать перед всем миром величие, могущество, обширность пространства Российской империи, единство ее народов под властью русского самодержца» [201]. Однако как попытка репрезентации этнического многообразия именно Российской империи этот проект обладал одним серьезным недостатком – помимо народов России, на выставке были представлены славянские народы, проживающие вне ее (в частности, в пределах Австрийской и Османской империй). По сути это была попытка совместить образы Российской империи как мозаичного целого и России как части (причем центральной) «Славянского мира». В силу этого эффект от проведения выставки оказался совершенно иной – она была воспринята как мероприятие не научно-просветительского, но политического характера [202].
Тем не менее, деятельность государства в этой сфере продолжилась – по окончании выставки ее экспонаты были переданы Московскому публичному Румянцевскому музею (под названием «Дашковский этнографический музей»), где они были доступны для всех желающих. В отличие от другого крупного общедоступного музея, в котором были представлены этнографические коллекции, – Кунсткамеры (в то время называвшейся Этнографическим музеем Академии Наук, позже – Музеем антропологии и этнографии, МАЭ) в Румянцевском музее основное внимание было уделено именно народам Российской империи, что делало его национальным. Кунсткамера же воспринималась скорее «музеем колоний».
В 1870-е гг. по инициативе отдельных личностей или городских обществ начали появляться местные или региональные музеи. Наиболее значительной их роль была на восточной окраине Сибири, где, в силу удаленности от академических центров, они заменяли и университеты, и научные общества. Одним из первопроходцев в этом деле стал член Казанского общества естествоиспытателей, решившийся переехать в Минусинск – Н. М. Мартьянов. Именно им был создан первый в Восточной Сибири местный краеведческий музей (открытие состоялось в 1877 г.), впоследствии ставший самым известным региональным музеем в России. Он был изначально задуман как средство ознакомления местной публики с регионом во всем его многообразии – от природных условий до археологии, от этнографии до промышленности. Важным было то, что Минусинский округ рассматривался как часть России, и представленные в музее коллекции должны были подчеркнуть это единство в многообразии. Аналогичная ситуация была и с прочими местными музеями, однако, как правило, их возможности были гораздо скромнее, что не позволяло отразить это многообразие в полной мере. И практически никогда в этих музеях не отражалось влияние русских на прочие народы, что делало их проводниками второй парадигмы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу