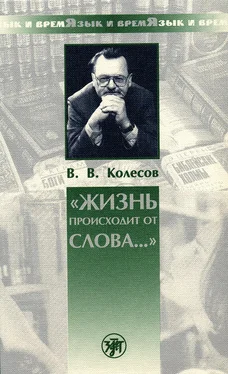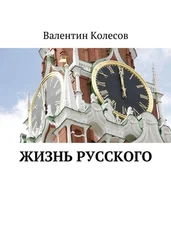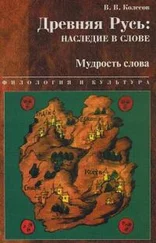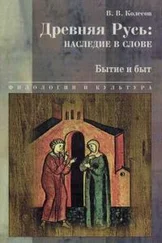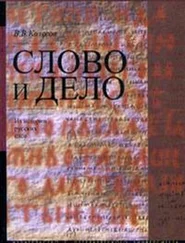Таким образом, на любом этапе развития столкновение с другими точками зрения положительно сказывалось на развитии русской ментальности. Ведь потенции собственного развития наиболее ярко проявляются на фоне внешних влияний и даже заимствований (условных, конечно: русское понятие о «совести» отличается от греческого и латинского).
Источники древнерусской и более поздней философии вплоть до современности, равно как и народного самосознания, отраженного в слове, – общие. Это христианская, в основном переводная, литература (начиная с «Лествицы» Иоанна Синайского), а также оригинальные переработки этих текстов, типа сочинений Нила Сорского, значение которого в формулировании нравственной философии мало отмечается. Это и терминология, которая в общих своих чертах создана и на основе калькирования греческих терминов представлена уже в переводных славянских текстах Х – XI вв. ( сущее, существо, естество, качество, количество и проч.) Этнолингвистические штудии русских философов имеют в качестве базовых именно такие термины. «Мысль направлена словом», – говорил А.А. Потебня. «Только в силу того, что содержание слова способно расти, слово может быть средством понимать другого» (Потебня, 1976, с. 189 и 180). Народное самосознание как субстрат авторского философствования также было общим для философов любого времени: совпадала общая религиозно-нравственная основа философствования («начала сходятся в концах»). Наконец, этому способствует и сам русский язык, который своими символическими формами постоянно воссоздает представления о, казалось бы, полностью выкорчеванном народном самосознании.
С точки зрения развития русской научной рефлексии, нет столь уж значительной разницы, к примеру, между славянофилами и западниками: их теоретические положения – всего лишь экспликация внутренних противоречий собственной русской философской мысли, но под стимулирующим напором чужеродных идей и методов (Шеллинг или Гегель, католицизм или православие, слово или дело и пр.), результат развития предшествующих этапов мышления (традиция или новаторство, реализм или номинализм, рационализм или духовность и пр.). По существу, их идеи всегда находятся во взаимном дополнении, никогда не вступая в конфликт; например, точки зрения А. Герцена и К. Аксакова на одни и те же вопросы. Только совместность полярных идей составляет цельность русской философской мысли. Исторический момент каждого нового столкновения с инородным представляет в аналитическом виде такую цельность. Ничего странного в этом нет. В развитии сознания неизбежно и диалектически оправданно наступает момент поляризации противоположностей. Так было всегда: в XI веке, в конце XIV, в начале XVI, в XVII, в конце XIX-го. Между прочим, толерантность русского характера связана с этим же. Природное уважение русского человека к иноземцу определяется его вниманием к сущности, к характеру, к поведению чужеземца, хотя, конечно, он может высмеять его костюм или носовой платок. Принципиально многонациональная государственность выработала в русском человеке терпимость к другим обычаям и нравам, русский человек – не националист и не расист.
На основе подобных столкновении с «внешним миром» происходит специализация самых общих установок философствования. Например, исходный синкретизм Логоса постепенно аналитически раскладывается на составляющие его компоненты: мысль – слово – дело (а как результат этого движения – «вещь»), т. е. мысль —> слово —> дело. Если не пугаться мистического подтекста этой чисто аналитической процедуры (читая Н. Федорова или Вл. Соловьева – чего уж бояться!), можно понять, в чем заключается трагедия русского менталитета: происходит последовательное отчуждение первоначально ясных соответствий, поскольку в качестве существующей самостоятельно «мысль» не всегда соотносится с эквивалентным «словом» и часто не соответствует «делу». Каждый волен выбрать для себя то, что он считает главным олицетворением (ипостасью) Логоса – мысль, слово или дело.
Тем не менее столкновения с инородным позволяли обогащать содержание философской мысли через обновление ее форм. Теперь понятна известная продуктивность тех ученых-гуманитариев, которые понимали необходимость и неизбежность нового синтеза славянской и западноевропейской (или восточной) научной мысли. Чистые западники и чистые славянофилы оказались бесплодными, оставшись на уровне умозрительной критики или публицистики: либо позитивизм, либо феноменологизм – третьего не дано.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу