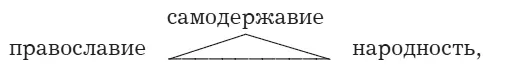С конца XVIII века Университет и Духовная академия распределили между собой аспекты изучения предмета и объекта, а возникшая вскоре научная соревновательность между Московским и Петербургским университетами привела к разграничению по объекту и методу. Оставляя в стороне собственно богословские вопросы темы, рассмотрим некоторые расхождения в подходах к проблеме, традиционно присутствующие между двумя университетами. Это поможет осознать глубину самой проблемы, только в совокупности исследовательских подходов предстающей в целостном виде.
С самого начала научного изучения предметом описания стали тексты, сохранившиеся во времени, но оцениваемые с точки зрения общеконфессиональных предпочтений. Именно здесь обнаруживается первое расхождение между представителями двух научных школ – совсем не случайное расхождение.
Философской основой гуманитарного знания в Петербурге долгое время оставались лейбницианско-кантовские подходы к научному исследованию, в Москве же господствовала шеллингианско-гегельянская методология. Одновременно в Москве обозначилось расхождение между славянофилами и западниками; в столице эти расхождения отчасти нейтрализовались, лишенные методологических основ «диалектики общего».
Юрий Самарин в магистерской диссертации 1843 г. определил, что «система Феофана Прокоповича относится к системе Стефана Яворского как система протестантизма к системе католической». В этой верной формуле утверждалось постоянно свойственное московским церковным иерархам расхождение по «духовным полюсам» – начиная с расхождений между «нестяжателями» Нила Сорского и Иосифом Волоцким в XV веке и вплоть до XX века. Западники с ориентацией на католичество – от Чаадаева до Соловьева и далее (Г. Иванов и др.) и славянофилы с ориентацией на протестантизм – от Хомякова до Сергия Булгакова и далее. Диалектическое двоение московских любомудров – доминантная черта московского философского быта, и это необходимо учитывать при изучении вопроса; например, оценивая тягу молодых москвичей к неокантианству именно Марбургской школы в начале XX века.
Петербургская гуманитарная наука, и прежде всего историко-филологического цикла, даже самим составом исполнителей показывает полное отсутствие подобных расхождений. В нашем университете сошлись и прибалтийский немец А. Х. Востоков, и чех П. И. Прейс, и хорват И. В. Ягич, и поляк И. А. Бодуэн де Куртене, и харьковчанин И. И. Срезневский, и многие другие. Здесь отмечалась не тяга к конфессиональному разрыву по крайностям: в университете были представлены разные конфессии, но это не мешало дружной работе их представителей. Между прочим, также многовековая традиция, восходящая, быть может, к новгородским «ересям» с конца XIV века, говоря старинным слогом – к прелестному блядству . Результатом стало то, что, в отличие от московских «ревнителей веры», в Петербурге основное внимание уделялось изучению не соборности и всеединству в церковной ограде, а проблеме человека в Церкви – личная вера, а не религиозность. Не культ сам по себе, а культура .
Как известно, формула министра народного просвещения «православие – самодержавие – народность» (1834), восходящая к символике средневековой Руси, стала идеологемой русского общества XIX века (и сохраняется до сих пор, меняя обличия); она же привела к образованию в университетах славянских кафедр (1835). Направление научного познания от идеологически ориентированного сознания отличалось тем, что символико-градуальную (тернарную) оппозицию оно разбивает на две понятийно-привативные, более удобные для научного анализа. Понятно, почему это происходит. Символ толкуется исходя из традиции и всегда известен; здесь возможно различное понимание. Понятие же требует строгого определения . Так сложилось, что тернарная формула графа Уварова, по общему принципу православного толкования данная как
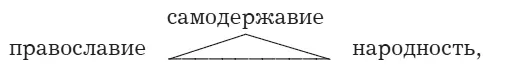
разделилась на две параллельные линии, подлежащие обстоятельному анализу:
православие – самодержавие – «московская» проблема Церковь – Государство;
самодержавие – народность – «петербургская» проблема Государство – Общество.
Тем самым обозначилось, и еще более увеличилось, на уровне объекта изучения , расхождение в изучении русской христианской культуры. Богословская составляющая проблемы находилась в центре внимания московских филологов, даже на анализе языка, слова и текста московские гуманитарии ставили и решали вопросы, обращенные к вероисповедным мотивам. Достаточно вспомнить, что защиту Имяславия взяли на себя П. А. Флоренский, С. Н. Булгаков и А. Ф. Лосев, тогда как петербургские их коллеги предпочитали говорить не о «божественных именах» в суждении -предложении, а о конкретных словах родного языка, согласованных с событиями личного мышления. Философы изучали проблемы сознания (идеал-реализм), филологи – разговорную речь реального человека в действительном обществе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу