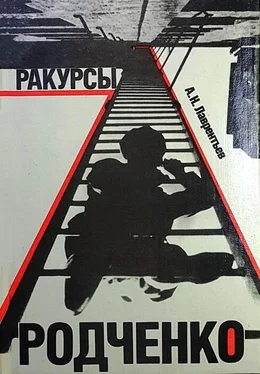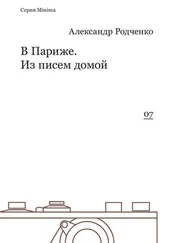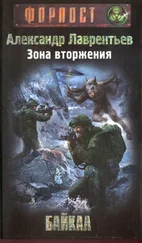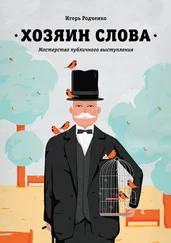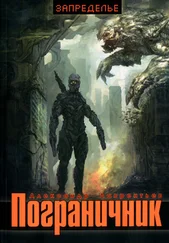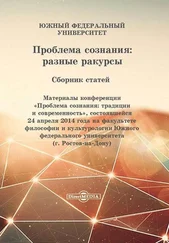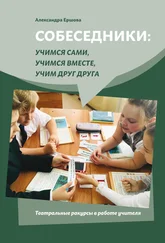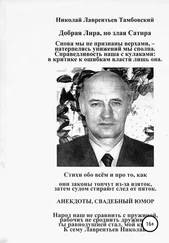Как шла история живописных изобретений? Сначала желание изобразить, чтоб вышел «как живой», вроде картин Верещагина или Деннера, у которого портреты вылезали из рам, и были выписаны поры кожи. Но за это вместо похвалы ругали фотографом.
Второй путь — индивидуально-психологическое понимание мира. У Леонардо да Винчи, Рубенса и т. д. в картинах по-разному изображается один и тот же тип. У Леонардо да Винчи — Мона Лиза, у Рубенса — его жена.
Третий путь — манерность, живопись ради живописи: Ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо, Брак.
И последний путь — абстракции, беспредметности, когда интерес к вещи остался почти научный.
Композиция, фактура, пространство, вес и т. п.
А пути исканий точек, перспектив, ракурсов остались совершенно неиспользованы.
Казалось бы, живопись кончена. Но если, по мнению АХРРа, она еще не кончилась, то, во всяком случае, вопросами точек зрения не занимаются.
Новый быстрый реальный отображатель мира — фотография — при ее возможностях, кажется, должна бы заняться показыванием мира со всех точек, воспитывать умение видеть со всех сторон. Но тут-то психика «пупа от живописи» обрушивается с вековой авторитетностью на современного фотографа и учит его бесконечными статьями в журналах по фотографии, вроде «Советского фото» — «Пути фотокультуры», — давая фотографам в качестве образцов масляные картины с изображением богоматерей и графинь.
Каков будет советский фотограф и репортер, если его зрительная мысль забита авторитетами мирового искусства в композициях архангелов, христов и лордов?
Когда я начал заниматься фотографией, бросив живопись, я не знал тогда, что живопись наложила на фотографию свою тяжелую руку.
Понятно ли тебе теперь, что самые интересные точки современной фотографии — это «сверху вниз» и «снизу вверх» и все другие, кроме точек «от пупа»? И фотограф был подальше от живописи.
Мне трудно писать, у меня мышление зрительное, у меня получаются отдельные куски мысли. Но ведь никто об этом не пишет, нет статей о фотографии, о ее задачах и успехах. Даже «левые» фотографы, вроде Махоли-Надя, пишут индивидуальные статьи «Как я работаю», «Мой путь» и т. п. Редакторы фотожурналов о путях фотографии приглашают писать художников и проводят вялую чиновничью линию в обслуживании фотолюбительства и фоторепортажа.
В результате фоторепортеры перестают давать фотографии в фотожурнал, и фотожурнал делается каким-то «Миром искусства».
Письмо в журнале «Советское фото» обо мне — явление не просто глупой кляузы. Это своего рода снаряд, бьющий по новой фотографии. Оно имеет целью, дискредитируя меня, запугать фотографов, занимающихся новыми точками.
«Советское фото» в лице Микулина заявляет молодым фотографам, что они работают «под Родченко», не принимая тем самым их новые фотографии.
Но чтобы показать все же «свою» культурность, журналы помещают один-два снимка новых заграничных работников, правда, без подписи автора и указания, откуда взято.
Но вернемся к основному вопросу.
Современный город с его многоэтажными домами, специальные сооружения фабрик, заводов и т. п., двух-трехэтажные витрины, трамвай, авто, световая и пространственная реклама, океанские пароходы, аэропланы — все то, что ты так замечательно описал в своих «103 днях на Западе», все это поневоле сдвинуло, правда немного, привычную психику зрительных восприятий.
Казалось бы, что только фотоаппарат в состоянии отобразить современную жизнь.
Но…
Допотопные законы зрительного мышления признавали фотографию лишь какой-то низшей ступенью живописи, офорта и гравюры с их реакционными перспективами. Волей этой традиции 68-этажный дом Америки снимается «с его пупа». Но пуп этот находится на 34 этаже. Поэтому лезут на соседний дом и с 34-го этажа снимают 68-этажный гигант.
А если соседнего нет, то при помощи ретуши добиваются того фасадного, проектированного вида (см. фото на с. 33 из альбома «Нью-Йорк»).
Здания, которые, проходя по улице, ты видишь снизу вверх, улица со снующими авто и пешеходами, рассматриваемая тобою с верхних этажей; все, что ты ловишь взглядом из окна трамвая, авто, то, что, сидя в аудитории, в театре, ты видишь сверху вниз, — все это трансформируют, выпрямляя в классический вид «с пупа».
Глядя на «Дядю Ваню» с галереи, то есть сверху вниз, зритель, однако, трансформирует видимое. Перед ним «Дядя Ваня» стоит как живой с его серединной точки.
Я помню в Париже, когда я первый раз увидел Эйфелеву башню издали, мне она совершенно не понравилась. Но однажды я близко проезжал на автобусе, и, когда в окно увидел уходящие вверх, вправо и влево линии железа, эти точки дали мне впечатление массива и конструкции, которая «с пупа» дает лишь нежное пятно, так надоевшее на всех открытках.
Читать дальше