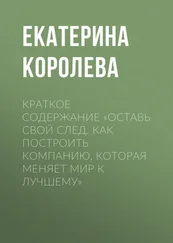Такая ситуация присвоения привилегий несколько раз повторялась в культуре, скажем, если в ранней Византии армейские команды и некоторые названия должностей оставались латинскими, то испанский гуманист Х.-Л. Вивес говорил об уродстве латинизмов в греческом языке: хотя казалось бы, какое ему дело до греков и их языка, если он писал только по-латыни. Но ему было важно, что греческий язык столь же техничен, сколь и латинский, столько же несет на себе следов божественной привилегии искусства; и если он менее востребован, то лишь в силу исторических обстоятельств, а не его собственного содержания. Можно сравнить это с многочисленными перекодировками Византии на Западе начиная от времени символизма до наших дней: отождествление византизма то с претенциозной изысканностью, то с растянувшимся упадком, то со сказочным Востоком, то с не очень понятным соседом – тем самым Запад сохранял свою привилегию на поэтическое изобретение «исторических обстоятельств».
История нашей культуры знает и взаимопроникновение языков, и их принципиальную изоляцию друг от друга. Например, в раннем христианстве для обозначения любви утвердилось греческое агапе, означавшее первоначально восторг, но по созвучию с еврейским и сирийским словом для любви приобретшее новое значение. С другой стороны, суеверное чтение Библии не давало произнести хулы, даже если она принадлежит героям, поэтому жена Иова советует: «Благослови Бога и умри» вместо «похули» – подстановка слова должна была исключить власть языка над тем, кто повторяет эту формулу. Но и взаимное проникновение, и изоляция исходят из того, что языковая способность – продолжение природы, и дав этой природе вполне проявиться в соблюдении всех правил коммуникации, мы тогда и только тогда дадим сработать содержанию. Так на практике и создавалась первая семиотика многоязычия: многоязычие не нарушает правила и не создает их, но позволяет проконтролировать, соблюдены ли все правила, и одновременно разрешает содержанию заявить о своей действительной мере. Только развитие романного жанра позволило героям сообщать свои содержания независимо от того, как структурировано развертывание природы, просто потому что они выговаривают ту природу, которая задумана в них – именно таково понимание романа, предложенное М.М. Бахтиным как своеобразной лавки уцененных жанровых форм, благодаря уценке которых и возможен семиозис отдельного человека как переизобретающего всем на радость свою природу.
Сам Бахтин, вероятно, под гнетом наступающей на него советской «народности», рассматривал становление романа с точки зрения народного юмора, преломившегося в сложно устроенном, но просто считываемом романе Рабле. Но был и другой источник сложения романа, а именно, переводческая культура Европы.
В основу этой культуры легло искусство памяти: умение запоминать большие тексты, опираясь на прямо не связанные с текстом намеки. Мы знаем это искусство по узелкам на память, хотя они совершенно не сходны с упоминаемыми ими событиями, или по календарным зарубкам на необитаемом острове или стене тюрьмы, по которым возможно не только высчитать дату, но и вспомнить сам ход важнейших событий. Античность научилась искусственно создавать эти ситуации запоминания, которые в приведенных выше примерах как будто естественны, ведь естественно оставлять след, но неестественно планировать саму структуру памяти. В Античности объясняли, как можно на прогулке запоминать речь, а после ее воспроизводить, или как можно, глядя в разные концы наполненного публикой зала, вспоминать разные идеи. Афанасий Кирхер, наш уже Друг, считал, что египетская архитектура вся из искусства памяти, что там все было организовано так, чтобы быть учебником – чуть не сказал «учебником для неграмотных», но ведь, по Кирхеру, египтяне были совершенно грамотные, архитектура им передала все знания. Потом эта идея архитектурной книги появилась в романе Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), бестселлере, благодаря которому этот собор и достроили, где как раз история архитектуры описывается как создание таких книг опыта и созерцания, и в том же 1831 г. Н.В. Гоголь написал статью «Об архитектуре нынешнего времени» (вероятно, Гюго и Гоголя равно вдохновил Вальтер Скотт), где потребовал прямо превратить город в такую полку каменных книг:
«Пусть в нем будут видны: и легко выпуклый млечный купол, и религиозный бесконечный шпиц, и восточная митра, и плоская крыша италианская, и высокая фигурная фламандская, и четырехгранная пирамида, и круглая колонна, и угловатый обелиск».
Читать дальше





![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)